ЭТО БЫЛО ДАВНО...
***

Атаман Войска Донского,
генерал от инфантерии граф Матвей Иванович Платов

Переяславская Рада. Рядом с Богданом Хмельницким боярин В.В. Бутурлин
(мозаика на станции метро "Киевская")

Мещёрское 1910 год. Третий слева - А.С. Бутурлин
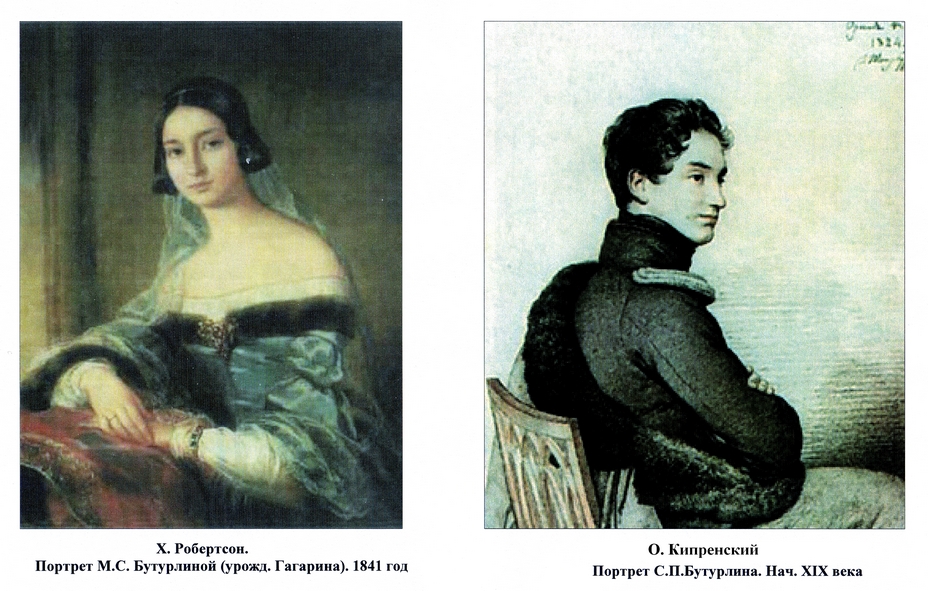
Родители Александра Сергеевича в молодости.

Сергей Петрович Бутурлин спустя лет сорок.
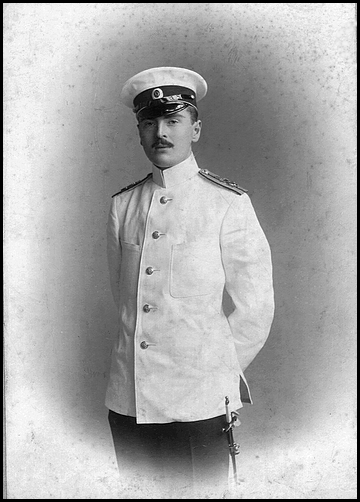
Михаил Сергеевич Бутурлин
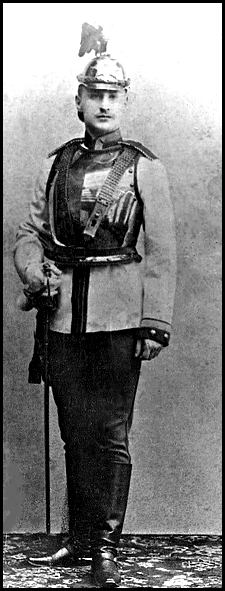
Старший брат бабушки Вари Сергей Александрович Бутурлин
во время прохождения срочной службы в лейб-гвардии Конногвардейском полку
- --
Дворянство жалованное или действительное.
- -- Дворянство военное.
- -- Дворянство по чинам и орденам.
- -- Иностранные роды.
- -- Титулами отмеченные роды.
- -- Древние благородные дворянские роды.
- -- Дворянство военное.


Николай Григорьевич и Лидия Леонидовна (ур. Дембовская) Филимоновы

Командир 5-го Сибирского Армейского корпуса
генерал-лейтенант Л.М. Дембовский
(1838 - 1907)
***
Сердце, тебе не хочется Тургая,
Сердце, ты не стремишься на вокзал,
Мама, как хорошо, что ты простая,
Спасибо, папа, что ты не граф, не генерал.
***

Папа, мама, Тэки и я.

Дядя Юра Ковалевский
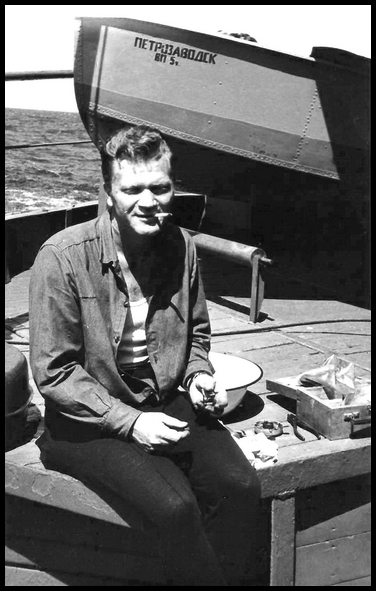
Наш двоюродный брат Сергей Ковалевский,
капитан теплохода "Петрозаводск" Волжского речного пароходства. 1975 г.

Мама и тётя Ира.