ТАТЬЯНА
НИКОЛОГОРСКАЯ
ВЕРА МАЛЕВА
ВСЕЛЕНСКАЯ ГОСТИНИЦА -- БИС
Том 1
Москва
"СМЕРТЬ ПОБЕЖДАЮЩИЙ
ВЕЧНЫЙ ЗАКОН -
ЭТО ЛЮБОВЬ МОЯ..."
(Рабиндранат Тагор)
СТИХИ И ПРОЗА ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ
НИКОЛОГОРСКОЙ.
ПИСЬМА ВЕРЫ ВЕНИАМИНОВНЫ МАЛЕВОЙ
На обороте шмуца

Двухтомник поэта и публициста Татьяны НИКОЛОГОРСКОЙ представляет собой переработанные книги памяти Веры Вениаминовны МАЛЕВОЙ "Вера!.." и "Вселенская гостиница", изданные в Москве, соответственно в 2008-ом и 2010 годах (издательство "Новый ключ").
Третий по счёту памятник большому другу автора-составителя дополняют очерки и стихи последних лет.
Жемчужиной книги являются п и с ь м а талантливой учительницы, чья светлая личность увековечена московским поэтом.
Содержание "повестей в письмах" Веры Малевой чрезвычайно разнообразно: здесь и след Пушкинского заповедника времён Семёна Гейченко, и "педагогическая поэма" словесницы, горячо любившей своё призвание, и круг чтения филолога, и портреты друзей, чьи судьбы нередко трагичны... Зарисовки природы, городские пейзажи, поиск дороги к Храму, след зловещего Чернобыля, сократившего Вере жизнь, -- вот далеко не полный перечень сюжетов и тем эпистолярного "романа", который -- в этом раритете -- представлен наиболее полно ближайшей подругой киевской учительницы.
Всеотзывчивость и редчайшая по силе доброта, остроумие, жизнелюбивое внимание к людям, нежная меланхолия, верность и некорыстие --грани характера Веры Вениаминовны, чьи письма отныне -- один из богатейших и уникальнейших памятников недавно минувшей эпохи.
----------------
В 1-й том вошли страницы из книги "Вера!..", а также новые стихи московского поэта, посвященные киевской учительнице.
"НА СВЕТЕ НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ ЛЮБВИ, ВЫШЕ РОДСТВА ЛЮДЕЙ..."
(Константин ПАУСТОВСКИЙ)
"...Может, всё на земле - это только один человек?"
(Светлана Соложенкина)
____________________________________
Мы живём в мире условных истин и неосознанных парадоксов.
Нас подстерегают каверзы политики, чужих лжеопытов и погоня за выживанием в мире тяжкого общежития. Пытаясь найти смысл своего бытия, мы бросаемся к удобной и привычной -- непроверенной и зыбкой на самом деле -- морали, подменяя Бога -- догмами, созданными испорченным телефоном государственности.
Ни одна религия мира не пожалела ЧЕЛОВЕКА, на разгадала -- в пылу междоусобиц и строительства норм стадного комфорта - его истинных тайн и загадок.
Смертный, неповторимый человек -- в мусорной яме забвения. Забота о пользе котлеты, о пользе пушечного мяса, наповерку, далека от феномена творчества, феномена человеческого счастья....
Среди утрат мирового самостояния -- ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Её трагедия -- фанатизм стада, извечное "РАСПНИ ЕГО..."
Но мы неодинаковы. Мир каждого -- самоценен и торжествующе прекрасен. В этом спасение...
Искусство -- отчасти! -- приоткрывает завесу над бытием духа самого трагического из существ Земного Шара -- мыслящего, богоизбранного, несовершенного, великого, противоречивого... Но призванного ОСОЗНАТЬ и оправдать ПРИРОДУ, доказать: есть право жить не по законам стаи и стада, -- то есть быть ЧЕЛОВЕКОМ. Свободным человеком.
ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО -- вот наивысшие ценности столь краткой и до боли невостребованной жизни индивида. В нас гаснет с годами, ПОСЛЕ ДЕТСТВА, больше талантов, чем мы реализуем. ("Так уходит балет, уходит музыкальная школа..." -- строчка из Дневника моей покойной однокурсницы Наташи Туренко). На сто процентов реализуются только вожди да наполеоны. Пушкин реализовал себя -- процентов на десять... ("Но больше расплескал" -- это Юрий Кузнецов о нём!) Жизнь человека -- мучительная попытка Природы осознать себя, -- скажет герой рассказа Василия Шукшина. (И прорваться куда-то выше! -- добавлю).
ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО -- вот оправдание жизни. Потому что они независимы от диктата толпы. Всё хорошее, что было и будет в пути -- от них производное. Всё, что захочется вспомнить в последний час...
Мы одурманены биографиями знаменитостей, нас манит (тяжкая по сути) слава "звёзд" и кумиров масс-медиа. Мы сбиты с толку, мы забываем, что всё одухотворённое и не зря прожитое -- и есть истинно ВЕЛИКОЕ.
Песнь в письмах и стихах -- наша с Верой Малевой - и есть лучшее тому подтверждение, что "простых" людей на свете мало, зато есть множество нераспознанных.
Не случайно одна из читательниц назвала Веру "писателем-романтиком".
Её письма летели ко мне без малого 28 лет.
Перечитав их после смерти друга, я увидела растрёпанный яркий роман, а может быть, эпопею, и уж безусловно -- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ЭПОХЕ, а не только личный дневник...
Тайна личности Веры Вениаминовны, её бед, надежд и радостного служения людям, её "духовного материнства" в страде школьных будней -- это прыжок над обыденщиной, полёт сверх физических сил...
Поэзия (писем и стихов) -- венец её БЕССМЕРТИЯ.
Поэзия -- всегда вызов обывателю...
NB: Мы не имеем права забывать ЛЮДЕЙ!
Жизнь Веры Малевой -- это тоже кладезь для историка.
А сколько увидит в этом зеркале будущий (да и нынешний) учитель!
Я не дала исчезнуть этим письмам, потому что в сердце моё стучится Верина судьба. Душа Верочки надеется на меня, голос её меня торопит...
А потому "писатель-романтик" воскрес.
"Вера была великой учительницей, мне до неё -- расти и расти! -- призналась мне в Клину пожилая учительница, одна из лучших в городе.
Реализовать себя в этой жизни очень трудно.
Но можно -- в союзе с другом -- стать собой, выстроить себя.
Мы с тобой сделали это, Верунь. Мы отстояли нашу Поэзию.
А потому -- всё остаётся людям...
Татьяна НИКОЛОГОРСКАЯ,
Сентябрь 2009 - декабрь 2012 года, Москва
Татьяна Никологорская
По лунному лучу...
СТИХИ

на об.шмуца!!!
х х х
В.М
По лунному лучу
Уходишь от меня
Упорной и слепой
Сомнамбулы походкой.
Тебя позвать хочу, -
Но луч не знает дня.
Все глуше отзыв твой -
И реже плач мой кроткий.
Ты здесь - и ты нигде.
Ты - жизнь моя и кровь.
Ты - яблока судьбы вторая половинка.
Ты - вызов моей беде.
Ты стала вихрем слов.
И одиночества початой четвертинкой.
Тебя мне не догнать.
Объятий не сомкнуть.
И мокрые не целовать ресницы.
Зачем же, до сих пор,
Презрев размолвок муть,
Друг так отчётливо и чисто снится?
Ты - правда и печаль.
Ты - выдумка моя.
Ты - п л а ч у щ и й о г о н ь ,
Что порожденье Фета...
Ты - шрам мой навсегда от этого огня
И на Святой Горе - немеркнущее лето.
Мне ведомо теперь, зачем в иных мирах
Живёт одна из лучших на Земле мелодий.
Все истинное побеждает страх,
Преображается,
но не проходит!
16 -21 апреля 2008 года
Москва
х х х
Я вновь купаюсь в этих письмах.
В их тёплой правде,
Нежной лжи.
Стрелец мой, Тигр мой независимый,
Опять мне юность расскажи!
Верни мне лето Святогорья,
Над Пушкиным дневную ночь.
Ты - жизнь.
А счастье или горе -
Не мне загадку превозмочь.
Мы всё друг другу рассказали
За тридцать лет, за тридцать вех.
И обнимает нас в печали
Бесстрастный искрящийся снег.
Но там, где звёздочкою Вечность
Сроднила судьбы и пути, -
Всё светит мне твоя сердечность.
Всё силюсь я тебя найти...
23 мая 2009 года.
Москва.
РАЗГОВОР С БОГОМ. СОН
Седую,
И в ночной рубашке,
И босиком -
На Страшный Суд?!
Не надо !!
Позабудь вчерашнее. Безумное, чужое, зряшнее...
Пусть ангелы её спасут!
Со мной - что хочешь делай, Боженька,
А это сердце - пожалей!
Обуй её, в отёках, ноженьки.
Даруй прощенье поскорей!
Она - дитя. Почти безмолвное.
Во всём покорное судьбе...
Неужто предназначишь молнии
И гром несчастной голове?!
Ты - Бог.
Ты - сильный.
Мы ж рождаемся
Немногим зрячее котят.
Ты с женщиною расправляешься
Иных святых - нежней стократ!
Учительницу по этапу
Ты не погонишь. Я молюсь,
Чтоб преисподнее гестапо
Тебя не тронуло, Верусь...
Босая, в байковой рубашке,
Идешь, бела, на Страшный Суд...
Не надо!
Бог, - прости вчерашнее,
Больное, лживое и зряшнее...
Сам не суди коль учишь тут!...
Она и говорить боится-то...
Лишь из очей её глядят -
И Лев Толстой, и тьма египетская,
И грусть космических баллад...
Её прекрасней НЕ БЫВАЛО!
Она - ребёнок.
Ты - сильней;
Сорви страданий покрывало,
Верни ей рай и смех скорей!
Запомни, Бог: мы были счастливы!
Мы помогали жить друг другу.
Не всё святое обозначено...
Да убери ты эту вьюгу!!!
..........................................
Бог, не держи меня здесь долго,-
Об этом тоже попрошу.
Из сердца кровь течёт, как Волга.
И я п о с л е д н е е пишу.
Кровь и слеза - мои чернила.
Но долг последний я отдам,
Когда, отвергнув век унылый,
Я, книгу "В Е Р О Ч КА" издам...
В Твоих лугах окошко светится:
Гуляет месяц!
Пусть мы встретимся,
Под вишней, в мамином саду
С антоновкою на меду,
Где яблоки стучали в крышу,
И друг шептал:
-
Озяб малыш мой!..
Где благодатней одеяла
О н а меня отогревала.
Рассвет над Псковщиною тает.
Искрит безлюдная дорога...
Я честно говорила с Богом.
Вот - быль,
И эта быль - святая.
Январь-февраль-март 2008 год.
НА ВЫХОД ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ "ВЕРА!.."
Зелёные косыньки
У моей берёзоньки,
Затенив балкон,
Спорят с ветерком.
Пролетели в деле
Годы и недели.
Овладели грозы брошенным гнездом.
Я тебя обидела -
Восемь лет не видела,
Вовсе не заметила доброты ветвей.
А сегодня в первый раз
Светлый май встречает нас
Маечкой зелёною
В комнате моей!
Здравствуй, смех берёзовый.
Облегчи ты слёзы мне:
Книгу Чистой Верности
Освяти окном!
Ты со мною, Верочка,
Искренняя веточка!
Кинь в берёзку весточку:
Как - на Свете Том?.
Вот и стала вечною
Наша связь сердечная -
Твои письма, мысли...
Реквием стихов...
И все годы прежние
Распустились, нежные,
Той мечтой безбрежною
Юных наших снов.
Не горюй, подруженька!
Многое завьюжится.
Многое забыла ты -
Там на небеси...
Не пройдёт любовь моя -
Это твёрдо знаю я.
Всё тебе я отпустила -
Ты меня прости!
20 мая 2008г. Свиблово.
" Нет, я жива!
И жить я буду вечно.
Есть в сердце у меня
То, что бессмертно..."
(Леся Украинка)
М А В К А .
.. Куда ты ушла -
я не чую, не знаю.
Ты - девочка Мальва,
Ты Мавка лесная.
Ты - сорванный ветром нездешний цветок,
Упавший безвестным в зелёный исток.
И сразу злорадная выпь закричала,
Когда ты покорно клонилась к началу.
Зачем мы терзали друг друга?
Не знаю.
То - навь и затменье, морока лесная,
Лохматая нечисть глухой старины,
Коряги, чьи завистью души полны.
А я - на свободе.
Не с ними, не с ними !
Я дам тебе новое, вещее имя!
И - только одна - от забвенья спасу
Я сердце твоё, что у сердца несу.
Ты в снах появляешься, друг мой чудесный.
Меня утешаешь. Твердишь: "Я воскресла!"
В котором мы встретимся снова столетье?
Я верю во встречу.
Мы - дети.
Мы - дети...
Конец 2008г. Ноябрь.
"Никогда ни о чём не жалейте вдогонку..."
/Андрей Дементьев/
х х х
Чужим умом удобно жить.
Но лишь ребёнку...
Я не устану дорожить
Страстей воронкой.
Я не устану ворожить
Над кипой писем.
Над рукописями трястись.
Путь - независим!
Мутится озеро души
Иль не мутится,
Со мной навек в ночной тиши -
Звезда и птица.
Без этой боли о былом
Мы все - манкурты.
Ему, листая свой альбом,
Не дай заснуть ты.
Не комкай прошлое!
Храни
Всё то, что живо,
Осмысли письма, судьбы, дни.
Забвенье - лживо!
И, стойко верная друзьям,
Познанью, Чуду,-
Жалеть вдогонку буду я,
Жалеть я буду...
18 апреля 2009 года - 20/IV. 09.
Страстная Суббота
х х х
...Вся музыка отзвучала,
Откланялась,
Уплыла,
Ушла к вековому началу,
И лучше ещё, чем была.
Все книги отшелестели,
Отрадовали,
Отклялись,
Весенней цветущей метелью
В судьбе ненароком сбылись.
Вот это и стало молитвой,
И сутью моей, и путём,
И чашкою счастья разбитой,
И фронтом, что не обретён.
И окна родной Третьяковки,
И фильмы про дом, где живём, -
Пролёткой лошадки московской
Упрятались за окоём.
Осталась родная столица,
История, мачта, мечта...
Да остро любимые лица -
Забытым - не счесть! - не чета.
Осталась текучая память,
Та книга, какую - пишу.
И жизни, и музыки замять,
Которым я принадлежу. 4 мая 2009 года. - Свиблово.
х х х
" ...До боли
Нам ясен долгий путь..."
(Александр Блок)
Рахманинов...
Колокола гудут...
Откуда эти скитники бредут?
Из древней, заповеданной Руси?
Из грусти - высоко на небеси?
Я им внимала в юности своей.
Они слышны -
то слабо, то сильней...
Какой-то журавлиный клёкот в них.
Открытость жизни. Космоса родник.
В них чей-то вой -
И слезы допьяна...
И вечный бой!
И вечная война...
Они про Аввакума помнят стон.
Речь не о том, каким крестись перстом,-
Но если человек ты по судьбе,-
Сильнее смерти истина в тебе.
История и совесть в них слышна.
Стрела сквозь звон заветный их прошла.
И вот опели путь моей любви...
А кто мы? Что мы?
То, что мы смогли.
14-18 марта 2008г.
х х х
...Ты примешь горсть сердечного.
Уснёшь...
Опомнишься.
В последний раз заплачешь.
Родные письма - нет, не зачеркнёшь!
Всю жизнь, как кинофильм, перелистнёшь.
В речушку детства в сумерках войдешь...
И вмиг поймёшь,
Как много в мире значишь.
20 февраля - 18 марта 2008г
х х х
Я праздную победный день сегодня!
Свершилось: книга одолела смерть.
/Ты напророчила. А я лишь только
Любить умела. И умела сметь/.
Во сне посмертном - помнишь? - ты сказала,
Что имя "Вера" - вроде позывных.
(Ещё тогда, в слезах, я знать не знала
Всей силы слов насмешливых твоих).
Нас обнимают фолианта своды.
Мы снова вместе и - навек, Верусь!
Михайловской гадюки подколодной,
Косохновской святоши - не боюсь!
3 июня 2008 г. Москва
Анданте кантабиле
Любовь сквозь корявую форму услышать,
Шершавую строчку - простить.
Мне - поле моё перейти,
Только б выжить,
Где пульса теряется нить.
Бессмертие мне по руке предсказали,
А старость - она не моя.
Всё поле уходит в небесные дали -
Не тропочка, не колея.
Не плачьте! Ведь сердце готово на муку,
Свобода его - наразрыв.
...Мне только пожать бы горячую руку,
До крови губу закусив.
7 мая 1990 года, день рожд. П. Чайковского
с. Фроловское /под Клином/, родина Пятой симфонии. Лес и поле.
/Я - после операции на щитовидке/
"Повести о лесах" Паустовского
Когда тебе снятся кошмары погонь,
Запомни: спасение - встречный огонь!
Твой лес выжигают, шипит клевета,
Мерзавцы слагают дрова для костра,
Который тебе уготовила л о ж ь,
А ты не сдаёшься: стихи издаёшь!
Не прячься. Не сетуй. Навстречу иди.
Не прячь своё сердце и рану в груди.
И, в пику попыткам тебя запугать,
Унизить с улитку, смешком доконать,
Скажи: да, н е в и н н а любовь и мечта!
...И, встречной лавиной, огня правота
Задушит пожар в заповедном лесу.
...Я милое имя от тлена с п а с у!
Я, только одна, дам б е с с м е р т ь е ему.
И вместе мы будем в веках потому.
1 июля 2008, Пушкиногорье -21 декабря 2013, Москва
ВЕРА ВЕНИАМИНОВНА МАЛЕВА
(1938 - 2005)
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родилась в Клину Московской области в семье инженера завода "Химволокно" и лаборантки этого же завода.
Раннее детство провела в эвакуации (Кустанай).
До 12 лет училась в Клину (посёлок Майданово, заповедный оазис, связанный с жизнью и творчеством великого композитора П. И. Чайковского)
С 1951 года с родителями поселилась в Киеве, где окончила среднюю школу и, впоследствии, Педагогический институт.
Всю жизнь преподавала литературу и русский язык в школах Дарницы - долгие годы в школе N 148, где некогда училась и сама, - а также в других учебных заведениях. Ветеран труда. Безусловно лучший русист-словесник Дарницы. Немало путешествовала по России и Украине. Посетила Пилипчу (родину предков Паустовского), Чернигов, просторы Дона. Побывала в Вологде, Одессе, Полтаве, Каменке-Черкасской, Каменке-Воронежской, Белой Церкви, Браилове; посещала Прибалтику, Ленинград, Старую Руссу, Мценск, Подмосковье, много раз бывала в Москве. Веру Малеву видели Волгоград и Псков, Крым и Кавказ, Брест и Краснодон, Звенигород и Харьков.
С конца 60-ых годов ХХ века почти ежегодная паломница Пушкинского заповедника (Псковская область). Ухаживала последние дни за парализованным Гейченко. Создавала для детей творческие кружки и факультативы, проводила КВНы, ставила самодеятельные спектакли. Часто водила учеников в театры Киева - оперный и драматические. Участвовала в походах, не чуралась работы в колхозах.
Основные увлечения: поэзия, музыка, театральное искусство.
Самоотверженно работала в преклонном возрасте с онкобольными детьми.
Была близким другом семьи С.С. Гейченко (основателя Пушкинского заповедника в послевоенный период), а также В.Б. Сосинского - участника Французского Сопротивления, русского дворянина, репатрианта, хорошо знавшего Марину Цветаеву и круг русских эмигрантов Парижа.
Имела обширнейший круг друзей и учеников - в Киеве и за его пределами. Выдающаяся черта характера - самоотверженность. Стрелец. "Тигрица".
Около 28 лет переписывалась с московским журналистом и поэтом, своей близкой подругой Татьяной Никологорской, чья книга "Вера!.." стала памятником. /М., "Новый ключ", 2008 год/.
В письмах Веры раскрывается богатейший духовный мир учительницы, её незаурядная, яркая личность, одержимая прежде всего любовью к детям и своему страстно обожаемому предмету - русской литературе.
Оживают образы друзей и учеников. Благоухает юмор жизнерадостного, импульсивного, всеотзывчивого человека. Тонкий лиризм, сердечность, умение жить миром друзей, их заботами и тревогами, верность и преданность, благородство чувств, прекрасный русский язык, незамысловатая беллетристичность писем, круг чтения, следы эпохи, памятной нам всем, боль за всё живое и страждущее - эти качества позволяют видеть в Вере Малевой нераспознанного "писателя-романтика" - и безусловно, автора новой Педагогической поэмы, ещё ждущего своего вдумчивого и гуманного читателя.
В российской газете "Слово" /www.gazeta slovo.ru/ в одном из номеров сентября 2006 года вышел большой очерк - памяти учительницы. Журнал "Природа и человек" в 2013 году опубликовал большую подборку писем Веры (NN3, 4, 5 и 6).
ВЕРА МАЛЕВА
друг вечный
(Повесть в письмах)

Вера Вениаминовна Малева
на об. шмуца!
ДРУГ ВЕЧНЫЙ
Из писем Веры Малевой Татьяне Никологорской
(1976-2004 годы)
"...Всё есть у нас, девочка: наша Россия, берёзы, ты и я..."
(1976 год).
Из писем Веры.
"Вера Малева - абсолютно очаровательный человек..." (Репатриант, герой французского Сопротивления, русский дворянин Владимир Брониславович Сосинский, Москва. Из телефонного разговора начала 80-ых.
В.Б. Сосинский был консультантом известного художественного фильма о Матери Марии).
"Мир лишь луч от лика друга,
Всё иное - тень его..."
(Николай Гумилёв)
на обор.шмуца
ПОВЕСТЬ В ПИСЬМАХ
Михайловское 11.07.76 г.
Милая моя,
моё нежное, сероглазое, тёплое чудо,
мне надо остаться без людей и вспомнить тебя по-настоящему. Плачу о тебе, но пусть тебя это не беспокоит. Бог знает, отчего плачу. Нельзя дотронуться до твоей руки -- и всё, что говорю сейчас людям, кажется ложью.
Я не перестану жить во лжи, но ты мне душу перевернула -- и опять не пугайся, моя добрая девочка, ты -- свет и нечаянная радость (и всё это жалкие слова по сравнению с тем, что нельзя рассказать и что живёт сейчас во мне).
Вчера обругал меня Гейченко за бессодержательность жизни и за любовь к С.: "Скажи мне лучше правду: ты его до Москвы провожала, этого Вовеласа. Ну что ты могла делать целую неделю в гостинице?"
А румяная нянечка удивилась, почему я с тобой не уехала. А я ей напомнила её слова (...) -- она запела: "Чевой-то она (ты, Таня) такие слова мои непошные запомнила". (Непошные -- плохие).
До свидания, родная моя. Почему-то не могу писать - опять реветь начну.
Целую тебя и люблю. И всегда помню.
Вера.
17.7.76. 4-ое, а не 3-е,
3-е ты приказывала не отсылать.
Милая Таня,
вчера утром приходила та румяная нянечка, которая "изнутри чёрная", и рассказывала свою жизнь. Записывать всё было неловко, вот тебе немножко: "Мой муж был -- как гончая собака СКИТУШШАЯ. А если всё рассказать, как я по первости жила, то морё будет всего. Самые серые, последние слова наши.
На своём веку поживёшь и в торбе, и в меху (мяху), а жизнь - прясельцами, знаешь, в деревенской избе в потолке прясла: одно жжёно, другое сгнило, а и хорошее есть.
И вилами меня колото, и резано меня, и душено. Много мною в жизни подумано и размышлёно, глубоко когда в жизнь войдёшь, лёгко не бывает.
Будешь хорошо говорить, как по холке много потёрто (это в ответ на моё -- хорошо говорите)". (...)
Нужно мне тебя пережить со страданием, а что от меня останется -- видно будет. Никаких людей сейчас не хочу -- случайные, пожалуй, легче, искренне радоваться могу только бабкам в нашей гостинице, да знакомым с Михайловской поляны.
Часто бывала в эти дни у Гейченко и чувствовала, конечно, и напряжение -- не то говорю, всё неправда. И уговариваю себя: ведь я этих людей люблю по-настоящему, ведь не просто же любезности говорю и ведь не из-за корысти -- и опять ты -- мой судья: а как ты взглянула бы на это всё.
Понимаю, что не должна никого с тобой сравнивать - и опять не могу.
Только не тревожься ради Бога: когда и как пройдёт всё это, не знаю, но спасибо тебе -- не думала, что мне ещё может достаться что-нибудь подобное.
В Москве, наверное, буду, если буду, 9-11.
Будь здорова, милая моя девочка, и не беспокойся.
Вчера кто-то оставил на могиле Пушкина букет гвоздик и несколько привязанных закладок со стихами (пушкинскими). На одном листке -- Окуджава:
А всё-таки жаль, что нельзя с А.С....
Подпись под этим листком - Я и Таня.
Мои киевляне решили, что мы с тобой таким образом переписываемся с Александром Сергеевичем и прибежали выяснять, правда ли.
Всё.
Обнимаю тебя и целую (...).
Лучше ли маме?
В.М.
Михайловское,
2.08.76 г.
Моя дорогая девочка,
если я тебя не увижу, мне будет горько; из-за тебя я хотела бы жить в Москве, в Клину, в Одинцове -- (...) страх за тебя -- хорошо ли тебе -- и более эгоистичный -- помнишь ли ты меня; без твоих писем мне тоже нехорошо, я перечитываю прежние.
Одна добрая душа подарила мне книгу стихов. Там есть стихи о Твардовском:
"Сочувствием обременён
И в песне верный своевольно,
Он сердцем принял боль времён
И сделал собственною болью".
(...) (...Извини за прозу, не знаю, почему-то не могу списать этих стихов).
Это я к тому, что С. я написала нежное письмо о том, как я его помню, как я ходила по Питеру, как я люблю тебя; не знала я этих стихов, чтоб слегка издевнуться над милым моим белобандитом - их написал его добрый знакомый.
Ты тоже не можешь предположить, как много ты значишь для меня. Дня два тому назад Тата Гейченко сказала об одном знакомом: "Понимаете, он вполне светский человек". Мне стало не по себе: я подумала, что тебя эта характеристика покоробила бы. Забавляется Дудин -- я думаю, как бы ты отнеслась к его забавам, кто его знает -- он кажется мне добрым человеком, и уж совершенно точно -- он не сноб, но ты что сказала бы?
Ты вернула мне что-то из забытого прошлого, что-то такое светлое и чистое, что я не могу представить, как это к тебе можно относиться просто хорошо-спокойно, а не любить тебя (...) Когда-то я обещала прислать тебе записи из дневника о тебе, выписала и не отослала. Сама понимаешь, что вместо дневника я пишу тебе письма.
Но всё-таки вот тебе.
2 июля. Девочка с серыми глазами и чистым лицом. Очень изящные жесты. И руки.
4 июля. Таня Никологорская. Нельзя навязывать отрицание, можно -- любовь. Тот, кто любит, всегда прав.
5 июля. Милая Танина вспышка. Чистое дитя. Чистота спасёт мир.
(ПРОСТИ ГЛУБОКО-МЫС-ЛИ-Е!!)
8 июля. Сероглазое Чудо вздыхает во сне. Удивительная способность закрыть глаза и опять спать. Потрясение - от чистоты, правды, глубины. И боль. Не от того, что ты уже не можешь быть такой, а от того, что не можешь оградить от ударов, укусов, от её боли. И она останется в прежней чистоте. И не станет разумно спокойной, как ты, и не примирится.
9 июля -- это списать не могу, уж слишком мне больно дался этот день. И простишь меня -- чай у Сосискинских друзей был для меня разрядкой, а то бы не выдержала (...). Девочка, я тебе благодарна (...) за всё (...).
Твоя В.М.
("Сосискиным" репатрианта шутливо прозвал Гейченко =Т.Н.=)
31.08.76 г. Киев
Милая моя, сероглазая моя, единственная радость моя,
что-то грустно сегодня стало; взяла твоё письмо -- наугад (любое, всякое, каждое), прочитала, что-то запела; мама вдруг обрадовалась, решила, что что-то хорошее со мной случилось.
Девочка, солнышко, ненаглядная моя,
ты со мной, что бы ни случилось; Господи, кого благодарить, что отпуск кончился у тебя в июле, что поехала ты в Михайловское, что поселили тебя и меня в палате N 9, да еще и рядом!
Как бы тебе ни было плохо, ты -- моё спасение, мой покой, мой берег (причал -- ты говоришь обо мне), помни: мне без тебя нельзя.
Завтра -- 1 сентября. Ты меня раза три уже поздравила. Спасибо тебе, девочка. Живёшь -- и уходят от тебя люди. Раньше -- 12 раз подряд -- я приходила в родную 167 среднюю школу (даже среднюю написала -- вот шкраб законченный!), на крыльце стоял физрук -- смуглый, чёрный, загорелый, было ему под 50, друзья звали его Ахмет, хоть был он Изён, еврей из Грузии. Мы целовались при встрече, а потом нежно здоровались с МихСидом, был у нас такой завуч, Михаил Сидорович Пинчук. После его похорон ко мне подошла одна женщина и сказала: "Это первый Ваш завуч -- интеллигент, будьте уверены, что и последний".
МихСид отвел меня 2 декабря 1961 года на мой первый урок, он в трудные минуты говорил: "Что Вы грустите, Вы такое древо жизни", -- или: "Разве Вы не знаете, что делать, почитайте стихи" -- и начинал:
"Любить иных -- тяжёлый крест,
Но ты прекрасна без извилин", --
и я начинала вопить, что он смотрит не на меня, а на Любку Молчанову.
Он говорил медленно; когда сердился, шея его краснела, а нос поднимался, но он редко на меня сердился. Когда мне, юной, робкой, непорочной, одна уверенная в себе женщина (и председатель месткома) сказала: "Из Вас учителя никогда не выйдет, дети Вас никогда слушаться не будут", -- я так рыдала, что он пошел за меня на урок. Он подарил мне книгу, написал -- товарищу по нелёгкой работе -- я вздохнула, а он засмеялся: "Взгляните на заглавие", -- заглавие было: "Давайте радовать друг друга".
К нему можно было зайти в кабинет и послушать музыку. 20 апреля 1973 года я бежала в школу, мой класс был дежурным, и, если б я опоздала на 10 минут, он начал бы линейку без меня (было такое мероприятие у дежурного класса каждое утро), и мне было перед ним стыдно. Я пришла, его нет; подошла ко мне девочка, плачущая, и говорит: "Наш завуч вчера вечером умер". Я не поверила. Когда пришёл директор, я попросила его подойти к Наташе и поговорить с ней, а сама ушла реветь поближе к подвалу, чтоб дети не видели. После смерти Михаила ушла из школы легко. (Смуглый весёлый физрук умер тоже).
Ты прости, девочка, что такое похоронное письмо. Не знаю, что это вдруг со мной. Это потому, что 12 лет подряд 1 сентября славный, умный, добрый человек говорил мне: "С праздником, В.В.!" А завтра праздника не будет... (...). В.М.
Киев. 7.09.76 г.
(...) не могу начать готовиться к завтрашнему дню. Не могу, потому что ещё не написала тебе письма -- третьего за сегодня.
Мне вдруг не по себе стало: а вдруг сегодня, как 31-го, ты ждёшь звонка?
Девочка, моя радость, моя печаль, моя совесть, прости меня за все минуты, когда тебе бывает горько или больно из-за меня.
Сейчас перелистывала дневник, почти прекратившийся. И вдруг - 6 июня. Вспомнила этот день, как ты славно сказала, -- с х о р о ш и м и чужими. Пили очень крепкий чай и шампанское. За Александра Сергеевича. И мне захотелось из него записать --
"Никому отчёта не давать,
Себе лишь самому служить и угождать..."
И казалось, что это было бы счастьем -- покой и воля, вольность жизни и покой --
Боже мой, кто же знал, что меньше, чем через месяц, явишься ты (...).
Думаю тоже, что, любя и помня многих, я могу говорить тебе о твоей единственности в моей жизни.
Ты просишь, чтоб я берегла себя хотя бы "для Таньки".
Да, моя родная, ты подарила мне это счастье: думать о себе для тебя, друга (...).
Я подумала сегодня: ещё одно чудо подарила жизнь.
(...) А стихи твои прочитала сразу, не могла отложить, пропустить -- как пьёшь вдруг -- измученный жарой и жаждой -- и вдруг полевые дороги, колосья и вода -- помнишь (конечно, помнишь) толстовское сравнение: точно забыла -- ломящая зубы (грубо звучит), с пылинками, живая.
Милая, я напишу тебе -- поздний вечер, скрипка доносится, и шум какой-то поздний, дальний.
И ты за синими лесами, Господи, когда же увижу тебя, моя славная, моё чудо.
Целую тебя, родной мой человек, дитя моё.
Твоя В.М.
Киев. 7 сентября 1976 г.
Татьяна, моя девочка, сейчас свободный урок, надо бежать на рентген, сдавать какой-то план какой-то воспитательной работы. А утром почтальон не успел прийти, и я перевариваю твои вчерашние письма (...)
Хмуро, серо за окном, на душе светло, славно, печально -- н е г о р ю й т е!
Славная ты моя (...).
Так вот, мне по-другому работается сейчас.
То ли высказалась я при публике -- легче стало; но главное -- ты, ты на меня -- тётеньку учительницу -- смотришь -- и я перебираю свою учительскую жизнь: а что ты сказала бы, интересно ли тебе -- ребёнку Тане Никологорской -- было бы у меня на уроке?
(...) Счастье -- это видеть тебя, и слышать, и читать твои письма, и целовать твои глаза, и бродить с тобой по Москве.
Я сопротивляюсь Москве не потому, что не люблю её, а потому, что не хочу быть неискренней: пока не люблю её так, как ты любишь, мое чудо, моя прелесть.
Полюблю ли -- не знаю. Но это не должно тревожить тебя.
(Весной 2000 года, 9 мая Вера мне сказала, гостя у меня:
-- Люблю Москву... Т.Н.)
А полюбить её из-за тебя -- разве грех? Ведь город -- это и память о людях. Не память, нет, ощущение какое-то.
И память о том, как ты смотришь из окна и говоришь о л а с т о ч к и н ы х х в о с т а х -- зубцах стен кремлёвских.
И о всей тебе. Этого не расскажешь.
Родная моя, девочка моя, до свиданья.
Целую тебя.
Вера.
Киев. 9.09.76 г. Ночь
(...) Родная моя, бродишь по Арбату, и я завидую твоей циркачке и Арбату. Я буду любить Москву, ты сейчас заслоняешь её от меня. Ленинград я могу воспринимать отдельно от людей, я сначала полюбила его -- город, образ города. А Москва -- это тоже очень много для меня, но сначала я вижу в ней людей, милых мне людей (...).
Киев. 10.09.76 г.
(...) Девочка, -- какая я фея Сирени? Спасибо, конечно, с этой феей связано одно из самых сильных детских впечатлений.
Первый мой театр - Большой, "Снегурочка". (...) Весна -- Давыдова и (...) Снегурочка -- Шумская. Дома в Клину я очень подробно всё рассказала, и взрослые удивлялись: "Смотрите, поняла".
Они не понимали, что я не поняла.
Почему Берендей не огорчился, когда растаяла Снегурочка. Почему "печальная Снегурочки кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут". Он мне показался очень жестоким -- этот Берендей, а вначале так понравился и так пел. И долго ещё меня передёргивало от этих слов -- как можно быть спокойным, -- люди погибли, и до сих пор не по себе.
А "Спящая" -- может быть, и не первый балет, что я увидела, но первое очень сильное впечатление. И что же мне понравилось? - Как проваливается в люк фея Караб(о?-а?)с. Как улетает на качелях из сирени фея Сирени -- была в Киеве очаровательная женщина Лидия Герасимчук, лицо -- ангельское, до сих пор фея Сирени у меня она.
Она умерла 36 лет от родов. Была я тогда уже студенткой, с тех пор на "Спящую" не ходила. Ушли давно мои Авроры, а главное -- черноглазая фея Сирени (...).
Мне кажется, что ты приписываешь мне качества, поступки и мысли, которых у меня нет.
Дневник я забывала:
по безалаберности;
не думала, что им кто-то заинтересуется;
была уверена, что читать его никто не будет (подозревала всех в порядочности).
О женщинах в нашей палате что тебе скажу: белая Лариса очень сердечно к тебе относилась, не удивлялась (...) тому, что еду за тобой в Псков. Она совсем простая, конечно, но у неё нет самодовольства, и она слушала тебя и верила тебе. И твоё мнение (о музыке, о стихах) было для неё важно.
О моей соседке справа сказать ничего не могу, это с ней ты объединилась в борьбе за педагогическое наследие В. Сухомлинского. А мне стало скучно, когда она сказала, что педагогика -- н а у к а и что она в школе работает 10 лет.
На твоей первой (клопиной) кровати лежала подолгу женщина из Волгограда. Бледная, с каким-то болезненным лицом. Читала "Онегина". Волгоград не слишком сыто кормится. Но в ней не было обозлённости, с которой некоторые волгоградцы говорят с сытыми киевлянами (я зимой там была). Она какая-то бледная и кроткая (...).
Киев. 11.09.76 г.
Здравствуй, девочка,
перебирала письма и нашла программу "Спящей", письмо Юрия Львовича, к сожалению, второе, в институт, где он вспоминает о нашем приглашении двухлетней давности (речь идет о Ю.Л. Давыдове -- племяннике П.И. Чайковского. В послевоенные годы родич композитора работал в Клину. Т.Н.), две фотографии -- себя, тощую и длинноносую, я вырезала на одной, на второй наша первая красавица Наташка Сизенко дарит ему дурацкий бархатный альбом (тогда еще не были так популярны рушники и дерево всякое).
Спасибо тебе, родная, за моё ожившее вдруг прошлое. Господи, как давно, как светло это было.
(...) Из "Письма к заложнику" Экзюпери (...). Я думала, что у меня такого друга не будет. И вдруг -- ты. И хоть ты не предъявляешь прав на мою дружбу, -- "друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, на которой дышится так легко". (...)
А для Вась и Трушиных тоже из Экзюпери (и для дяди - поклонника Виссарионыча):
"Порядок ради порядка выхолащивает человека, лишая его основного дара -- преображать мир и самого себя. Жизнь творит порядок, но порядок жизни не творит", -- правда, хорошо? (...)
Киев. 11.09.76 г.
(...) Ты где-то спрашивала о моём классе.
Мой класс -- девятый. Спокойный. Девочки недалеко ушли от купеческого сословия (пары четыре золотых серёг у меня в классе есть), но к настоящей интеллигентности ещё не пришли.
Очень яркая личность Элька Елишевич, хочет быть учительницей -- я тебе о ней писала. Легко плачет, её не понимают братья-учителя, считают невоспитанной, нахальной и т.д., а её просто очень трогает всякая несправедливость, и она бухает сразу всё, что думает. Противно учить ребёнка осмотрительности, но приходится.
Марина Штанько (тоже мечтает о литературе) -- огромные глаза, высокий лоб, тихий голос, язва желудка и очень низкое давление. В 6 классе она сказала своей нынешней подруге: ты примитивно мыслишь. Сыр-бор разгорелся, девицы потребовали разговора по душам, что тут объяснишь? Нельзя говорить -- примитивно мыслишь -- или нельзя обижаться, когда тебе это говорят?
Девочки у меня есть ещё интересные, есть и безликие -- мало, (...) может быть, я не успела увидеть? (Увидеть и их непохожесть).
Мальчики -- в этом классе мне с ними сложнее. Не мушкетёры, не рыцари, не грубияны. Существуют по одному.
Костя Гутенко. Я писала о нём, кажется. Стихи писал о кусочке голубого неба в подснежнике, делает чудные вещи из корней и бьёт бабушку. И сестру.
Вообще, у меня ровные отношения с этими мальчиками, а писем им писать, наверное, не захочется.
Костю в первом классе отец бил ногами во дворе школы; у Володи Иванова, высокого, красивого парня, отец страшно болен, за два года из тоже соответственно высокого и красивого мужчины превратился в обрубок и пьёт, и ругается матом.
Игорь Гусак -- весёлый, кокетливый, совсем не глупый. Отец живёт отдельно, об Игоре заботится -- и всё равно какая-то грусть, какая-то ущербность чувствуется.
Витя Ивашура очень болен, желтый, рассудительный (...).
Завтра я иду (еду) в Боярку, к узкоколейке Островского. С ними. Пожелай мне счастливого пути. (...)
Твоя Вера.
Киев. 13.09.76 г.
Девочка,
ну какой же я волевой человек? Пытаюсь проверить тетради -- не могу -- пишу тебе, надо написать Гейченко и одной знакомой, вдруг объявившейся в Париже, взяла бумагу и начала писать -- кому? Своей Татьяне, которую можно было бы оставить в детстве, да она и сейчас откуда-то из того, прекрасного и светлого мира детей, леса, музыки (...).
(...) как будто не было никакого прошлого жизненного опыта, горького и успокаивающего (...) не страдай -- всё проходит. А тут понимаешь, что это неправда, ничто не проходит; вдруг память выхватывает из прошлого -- далё- кого-далёкого -- июля 76 -- нет, нет из какого-то бесконечного тысячетнего прошлого -- её взгляд, его тепло и доверие обжигает тебя болью: ты никогда не посмеешь забыть этого взгляда, этих глаз, этих рук, протянутых к тебе, -- никогда не посмеешь, слишком много тебе было вдруг, в миг дано (...).
Мы были, девочка, кем мы были друг другу в п р о ш л о й жизни?
Мой светлый ангел, моя душа, моя жизнь и радость, пусть не будет в твоей памяти обо мне никакой боли, никакой грусти, я согласна, чтоб вся боль досталась мне,
девочка, милая, прекрасная моя, живи светло.
До встречи, моя голубка, моё солнышко светлое.
Твоя В.М. (...)
Киев. 15.09.76 г.
(...) Ты представляешь меня семь лет тому назад. 1969 год, Ленинград -- Михайловское -- Сосинские. И даже не Ленинград -- Михайловское. Сложнее.
В 1967 году я простилась с человеком, которого очень (?) любила. Я тебе, наверное, рассказывала, как встретила его ночью на ялтинской набережной по дороге в Старый Крым!
Было это в 1964 г., я была чуть старше тебя, поехала в Старый Крым, чтоб посмотреть жену Грина (прости моё легкомыслие). Всё остальное я тебе рассказывала, а чувство трудно передать: счастья, солнца, лёгкости, полноты жизни (я сейчас подумала, хотела бы я вернуть себе этот день -- нет (...)). Потом была любовь со страданиями, я многого по глупости и наивности не понимала, в 1967 году мы расстались навсегда, а в 1969 я вдруг перед отпуском позвонила в Харьков и сказала, что хочу его видеть. И приехала, и встретилась с ним -- просто и дружески; и встретилась еще с одним харьковским знакомым (он недавно умер), знакомый писал стихи, обыкновенные, был он очень болен (астма), глаза трагические, занят был исключительно собой, когда он на прощанье на площади Дзержинского поцеловал мне руку, я завопила: "Не надо", -- так показалось мне театрально, неестественно это прощанье. Но всё-таки в Харькове было хорошо. Люблю чужие города и гостиницы за чувство независимости и лёгкости - я не здешняя, не ваша, мне с вами легко, я вас даже, может быть, люблю.
Из Харькова приехала в Орёл, увидела большой самовар на вокзале, уселась возле него, чаю напилась с какой-то там баранкой, отправилась в Мценск. Там на площади стоит Иван Сергеевич с ружьём и собакой и подпись: "И.С. Тургенев на охоте". А над речкой Зушей Стрелецкая слобода, бабки коз пасут, на холме танк стоит. "Что за танк?" -- спрашиваю бабку, а бабка мне: "А это горсовет эту чуду здесь поставил. А теперь стесняется". Все тебя доченькой называют, жизнь светлая, в Спасском-Лутовинове коров в парке видела и мужика славного, а конь под ним в яблоках. Потом была Ясная Поляна, дождь у могилы Толстого, неожиданные заросли крапивы, и хотелось бегать босиком, пасти коров, ходить за плугом.
Ночь в Москве на Ленинградском вокзале (приехала поздно и не посмела никому позвонить, а хотелось день побыть в Москве, к утру не выдержала, уехала в Питер). В ленинградском метро -- вдруг странное чувство: где я? Вдруг проснусь -- а это Киев. Но был не Киев, а был Ленинград, м о й Ленинград, а теперь и т в о й -- м у з ы к а д в е р н ы х п р о ё м о в -- опять прости, если неточно.1 (Вот опять из-за тебя думаю: а о н ведь умер з д е с ь, в Петербурге, и хоронили его здесь, а мы плачем об этой смерти до сих пор. Вот и всё. В 1969 году 8 августа в Михайловском я познакомилась с С о с и н с к и м и и Гейченко (в один день). Какой я была -- трудно сказать.
Это были годы увлеченности классом, поклонения Ариадне (совершенству), любви;
до этого лета -- 1969 -- мне казалось: я хороша, хватит себя грызть, после него я начала себя судить опять. И всё время было чувство недостойности.
Нашла на днях записки тех лет. Не дневник. Тогдашний мой директор вдохновил меня на "перспективный план". Я увлеклась и им (директором). Мне казалось, что впервые в жизни работаю под началом у человека умного и творческого. Он с первого этажа мог крикнуть, когда ты где-то на 3-ем, -- подождите, у меня для Вас интересная мысль. Однажды в пятницу вечером он отправил меня в Москву, на Якиманку. Вот так и сказал: "Поезжайте сегодня вечером в Москву, договоритесь с Литературным музеем о фотографиях- иллюстрациях". И я поехала. И он очень верил в меня и носился со мной -- воспитателем. (...)
(...) моих детей он тоже любил, один раз он уговаривал меня выступить на каком-то городском совещании с сообщением -- "Воспитание ласкового тона в коллективе" -- ей-Богу, что-то в этом роде (...), ещё там была доброта и т.д.
А к 8 марта он каждому объявлял за что-нибудь благодарность, до сих пор я удивляюсь своей: за в о с п и т а н и е ч е л о в е ч н о с т и (...)
(...) он выкричал, прокричал свой авторитет, стал вдруг груб и глуп, - первый раз такое встретила - стал из умного, интересного -- пошлым и глупым, увлёкся мероприятиями напоказ (...) и однажды я завопила ему при публике: "Если Вы взяли на себя смелость руководить школой, не мешало бы быть чуточку воспитанней" -- в ответ на какую-то гадость о моих детях. Меня долго выживали: не замечали работы, но замечали просчёты; ушла я из школы после ухода детей (...). Одна из моих прежних учениц пришла (о н и пришли, когда узнали, что я ухожу) и сказала: "Я не представляю школу без Вас, но уйти Вам нужно". Знаешь, нужно было для самоутверждения. Сейчас у меня тоже неумное начальство, но внутренне я спокойнее и твёрже. (...)
Киев, 22.09.76
(...) Я думаю хотя бы об одной минуте рядом. Кажется, если б я могла уткнуться в твоё плечо, то побежала бы сейчас на край света, копала бы картошку, рубила бы дрова,
переписала бы 8 раз "Войну и мир". Даже 9.
Вчера не выдержала и стала читать И в е по телефону твои стихи. Не могу, чтоб одной мне было хорошо.
___
1 Непрямое цитирование двух моих ранних стихотворений.
(...) осень вокруг, всякие дураки царствуют, и сегодня вдруг девочка Оксана принесла на политинформацию Окуджавино интервью.
Звезда моя,
мечта моя,
где ты.
Твоя В.М.
Киев, 2.10.76 г.
(...) Что сказать о Москве? Почему-то сначала она для меня зимняя -- дорога из Москвы в Клин зимой 1958 года (тебе 7 лет). На вокзале кричат: "Пирожки горячие!" В вагоне мороженщица: "Эскимо -- рупь десять, сливочное" -- и т.д., а к горлу подступает ком -- в Клин! Потом опять Москва -- и вдруг -- снежная, оснежённая, заснеженная Красная площадь, почему-то огромные улицы рядом, потом погодинская изба недалеко от дома, где мы с девчонками живём.
В Большом -- "Свадьба Фигаро" и "Чародейка" (-- Танечка Тугаринова возрождает "Чародейку" -- дед в соседнем кресле), и опять зимняя Москва и синеглазая женщина на улице Горького, какой-то светлый, ласкающий взгляд.
Москва 70-74 годов. Это был Киевский вокзал -- станция метро "Щёлковская". Я не видела тогда Москвы, я видела Первомайский район, Сиреневый бульвар, 13-ю Парковую, 11, 9-ую (Парковую). Москва для меня была городом, куда я бежала, чтоб быть счастливой, чтоб испытывать удивительное ощущение взлёта. Очень тронуло меня лето, когда горел торф. Небо над Москвой, жара, утром в Измайлове появился заяц, сидит у лавки у дома Ариадны.
Мне листья почему-то вспоминаются жёлтыми -- почему? -- неужели летом они могли быть жёлтыми и красными?
Может быть, я напрасно говорила тебе, что не люблю Москву так, как ты. Ведь люблю же я её дух, если можно так сказать о городе, но не ощущаю её пока как ц е л о е -- понимаешь? -- по частям -- вот Кропоткинская -- тихо, стройно, нежно; Замоскворечье твоё -- задумчиво; Коломенское -- отрешённо и громадно; Измайлово -- светло; а бывает в ней сказочно, и суетно, и шумно, и затеряно; и хорошо мне было, к а к х о р о ш о.
Был дождь, была т ы рядом, и я буянила на московских улицах.
Таня, моя Таня, позволь дяде в очках больше любить Ленинград и Киев, он не поймёт т в о е й Москвы, а я, может быть, пойму?
Девочка, прости, если обидела тебя улыбкой. (...) Когда после собрания о побеге моего любимого класса с уроков я вышла в коридор (22.3.72 г.), меня ждал Коля Ерёменко (белый, курносый, гений, в очках).
-- Простите меня, я улыбнулся в начале собрания.
Прости меня. (...)
Твоя В.М.
3.10.76.г. Киев
Моя радость сероглазая, рада "Бересклету", ещё больше рада, что тебя это обрадовало, меня так пугало твоё равнодушие к тому -- будет ли напечатано (...)1.
(...) Читаю сейчас Тургенева. Всё о любви -- трогательно. В юности читала, любя автора, хоть знала, что где-то есть ворочающий камни Толстой, которого я боюсь полюбить, но полюблю -- такое уж у меня предчувствие любви. А сейчас жуть: 1-2 человека в классе читали "Рудина", 1-2 -- повести,
___
1
Моё стихотворение "Бересклет" было напечатано.
гибну я! Заставлять читать -- ужасно, грустно, не в моих принципах. Рыдать у них, своих убийц, на плече тоже не хочется! (...)
4.10.76 г. Киев
(...) мой родной подсолнушек,
сегодня утром получила открытку, первое письмо из Одинцова (...) и письмо из Москвы. Бежала на дежурство, встала в вестибюле и прочитала, и поняла, что Киев близко от Москвы, а ты в моём сердце (...) и жду тебя, и буду всегда с тобой.
П о к а ж и в а, с т о б о й я б у д у.
Вечером получила портретную галерею "Рубежей" и письмо с тремя рассказами.
Голубушка ты моя и солнце!
Гейченко прислал две открытки в двух конвертах:
ВЕРА!
ВЕРОЧКА!
ВеГуся! Привет.
С.Г.
__________
Дорогая Верочка! Прощаем Вам грехи Ваши.
ПРЕПОДОБНЫЙ С и м е о н ъ и Л ю б о ф ъ ДЕРИГЛАЗОВНА. (...)
Утром меня выпытывали: когда кончила институт? Какие награды имею? И т.д.
-- Без очереди попадаю в аттестацию (первоначально шла в списке на 1978 год).
Потом были уроки в 9-х -- "Отцы и дети". Было нескучно, кое-кто смотрел на меня заинтересованно, кое-кто внутри себя зевал, Наташка Колыбина подняла курносый нос, улыбалась, но молчала, а я люблю, когда её вдруг прорывает. Не прорвало.
На уроке о причастиях (6 кл.) за окном вдруг хлынул дождь, прорвало наконец унылую серость небес.
В коридоре летела мне навстречу белокурая бестия с безумным и твёрдым взглядом. "В.В.! Я хочу, чтоб Вы дали ответ, глядя мне в глаза! Вы такая тактичная! умная! (Прости, девочка, это цитата! Я не всегда т а к о себе думаю!) Но что Вас связывает с Довголевской?" -- "Я начинала с ней работать, ходила к ней на уроки, училась у неё!". -- "И это всё?" -- "Всё". (Лгу, глядя в глаза). Много лет тому назад -- 15! -- Довголевская мне сказала: "Из Вас учителя никогда не выйдет! Вас дети никогда не будут слушаться". -- Это тогда из-за моих рыданий МихСид пошёл за меня на урок. И я помнила это много лет, хоть судьба нас развела. А 4 года тому назад мне сказали: "Вы знаете, Д-ая при смерти", -- и я ужаснулась: как долго помнила я зло. И забыла. Пришла в эту школу... и опять встретила е ё: умную, скандальную, дерзкую (...), а спрашивала меня о ней очень сложная женщина, которой я не могу сказать правды, а потому сказала: "Всё сложно. И, глядя в глаза, я не могу Вам сказать правды двумя словами".
(...) А ты спрашивала и Сереже Жданове. Подсвечник с бородой на окне о н мне подарил в 9 классе, а из армии писал трогательные письма. И очень он смущается, когда говоришь ему что-нибудь ласковое.
Он влюбился без опасности для себя в Олю Скарченко (Робеспьер -- Нет ума! -- Нет сердца! -- Нет совести! -- не у неё, а, если ты помнишь, это цитата. Её речь о подонке Кпевацком).
Получилась печальная история. У Оли есть поклонник. Из Харькова. Она его мне приводила с год тому назад, и он мне понравился. И она его любит.
Серёжа оказался отвергнутым. Клянётся, что не потрясён. А просто грустно. Есть ещё обстоятельство, о котором писать не хочется. Хоть ты всё поймешь. И оценишь Серёжину доброту. И широту взгляда. Как-то просветлённо принимает он ту боль, что ему досталась.
______
Всё, девочка. Спасибо за прелестные рассказы. Напиши на Трушина сатиру в духе западных славян. (...) Татьяна Тэсс -- тонкоголосая -- выросла в моих глазах, кланяюсь ей. Целую тебя, мой прелестный, мой кроткий агрессор.
Будь счастлива! (...) В.М.
Киев. 5.10.76
Ласточка моя Татьяна,
не помню, поблагодарила ли тебя за прелестные рассказы; (...) просыпаюсь и благодарю Бога за то, что ты есть. (...) Не хочу думать о далёком будущем -- помрём, не помрём -- смешно.
Сейчас, когда я чувствую какую-нибудь физическую боль, мне страшно: у меня есть ты, я должна жить, пока не довоспитаю тебя до светлого восприятия -- приятия моей смерти.
А ПОКА БУДЕМ ЖИТЬ.
Будем жить и топтать траву на заливных Михайловских лугах, а коли помру, прилечу к тебе лёгкой тенью.
Заинька, сероглазенькая ты моя девочка (...), до свиданья! (...) Спасибо за Окуджаву!!!
Неужто напечатают? В век с о ц р е а л и з м а !
Автор отвлекает! Зовёт! К чему! К чему бы это?!!
(...) Вера.
6.10.76 г. Вечер
Моя голубушка,
решила проверить сочинения -- и вдруг чистый лист, не могла не взять его в руки, не могла не начать письма.
Твой разговор с Сосинским меня утешил:
а) он жив;
б) тебя всё-таки вспомнил; значит, склероз не окончательный;
в) пригласил! К себе! Слушателя? - (...)
... А летом 1975, когда я жила недели 3 в Москве у С о с и с к и н а, ездила я в Клин.
Выпросила 1 день. Поехала в С е л е н с к о е . Чувство было удивительное. Дорога от Селенского переезда, берёзы, что помню с детства, мимо церкви и кладбища, где моя бабка Пелагея (в церковь меня водила, н е д е л у х а -- её слово) и тётя Марья Кирилловна, дом в конце деревни, поле и лес. И дядя чуть не заплакал, когда я к нему на ток пришла. А потом мы зерно рассыпали у бабушки и тёти Маруси на могилах.
И чувство у меня было: это моё, это мои люди, мои, я от них пошла.
С о с и с к и н, конечно, не понял.
Где ему, с его истоками -- поместье на границе Польши, Перекоп с другой стороны, Бунин с третьей стороны.
А я простая и деревенская.
_____
Ласточка, девочка, цветок мой лесной, родник мой чистый, как хочется мне для тебя какого-то удивительного любовного слияния -- с природой, с людьми?
"О, если б мог весь мир обнять я!" (...)
Твоя В.
6.10.76. Киев, день, вечер
Родная моя,
Сегодня утром твоя открытка -- солнечный луч среди хмурой нынешней осени. Удивительно ты пишешь (и даже не то, что пишешь, а то удивительно, как пишешь и какие у тебя буквы).
В Михайловском ты меня слегка напугала тем, что рассказала, как тебя раздражает (...) восторженная вера в тебя.
Мой талантливый, так хорошо, так добро, так истинно талантливый ребёнок! Мне так хочется, чтоб тебе было с нами, людьми, хорошо, чтоб ты верила в то, что ты нужна, что ты можешь быть источником счастья, слёз; что надо быть просто благодарным судьбе, пославшей тебя нам (мне).
Я опять вдруг сейчас вспомнила тебя на вокзале. В красном. С удивительными твоими глазами. Стоишь у столба и ждёшь Малеву. (...)
Сейчас ты помогаешь мне переносить всю эту дурацкую жизнь.
Завуч, 32-летний, молодой, тонкий, звонкий: "Сколько повязок Вам сдали, В.В.?" Второй: "Как Вы выставляли оценки за сансостояние? А чье было распоряжение?" 3-ий: "Пошлите детей подмести пол в коридорах, и лестницы."
ТОС-КА! (...)
"Вы знаете, мама просила меня этого в сочинении не писать. Она говорит: "Ты В.В. расстроишь". А я написала. Ведь Вы со мной согласны?"
_______
Это уже веселее.
А друзья иногда уходят. (...) Хотела написать о своих ушедших друзьях, но так хорошо на душе сейчас от твоей Москвы, от твоего тепла, от того, что ты когда-то протянула мне руку.
_______
Мама права, моя девочка. Ты п р ы г а е ш ь. И прелестно при этом твои руки выглядят.
Крокодильский Сосиськин получит завтра-послезавтра от меня последнее письмо (отослала, не зная, что ты звонила ему). Я там такую лирику развела насчёт нашей дружбы, может, и ответит.
А откуда он знает, что ты в Киеве была? Может, просто догадался? А Окуджаву помнит, старый В о в е л а с !
______
Никакой пощады к р о к о д и л а м !
В глаз их!
_______
А могилу Искры и Кочубея мы так и не увидели. Приезжай!
Ладно уж, сначала я приеду. (...)
Вера,
твоя.
7.10. Вечер. (Киев)
Милая моя Татьяна, Заяц мой подмосковный,
нашла в своих выписках для тебя о Васях, Трушиных и пр.
Стругацкие, "Улитка на склоне" (может, помнишь).
"... добрый и честный. И те, кто тебя читают, становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищеные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни доброта, ни честность не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера...
Но всё зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые "зато": алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан..."
О В а с е:
"Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-то испражняется".
О Трушине:
"Ни единого дня без директивы -- и всё будет в порядке".
О друзьях очень длинно, поэтому конец:
"Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, как он есть!".
(Разрядка моя. =Т.Н.=)
______
Ты не сердишься на меня, родная моя? (...)
Твоя В.
Киев. 8.10.76 г.
Дорогой мой кактус,
прелестный мой подсолнух,
как без тебя жить? --
помнить о тебе, всегда помнить -- и когда перед тобой чужой, противный класс, куда тебя затолкали на замену, а им тебя слушать не хочется, а тебе не хочется с ними говорить, потому что у тебя нет настроения говорить, когда тебя не хотят слушать. Вот знаешь, что можешь заставить их себя слушать, но как не хочется заставлять.
К концу недели бегаю по школе злая, издёрганная; вчера на втором этаже подрались мальчишки-шестиклассники, один был в крови и лежал на полу, каким-то образом обхватив ногой за шею другого. Я схватила его за ногу, кое-как растащила их, а потом жалобно сказала молодому мужику, который должен был быть на этаже: "Очень жалею, что я не окончательная сволочь, а то ей-Богу наябедничала бы". Но всё это такая ерунда: эти дежурства, подметание школы, которое отодвигает великую русскую литературу на какое-то второе, третье, десятое место.
Все на сбор макулатуры!
Все в колхоз!
Кто куда, а я в сберкассу!
_____
(...) Мне плохо -- читаю твои стихи. Читаю, потом удивляюсь тебе, тому, как ты говоришь и пишешь по-русски, потом удивляюсь твоим серым глазам и вспоминаю твой взгляд. А ведь и в "Витязе" он был очень обиженным, и 5-ого, когда ты про теплообмен говорила, мне показался твой голос обиженным. Не думай, что Малева тронулась. Я совсем не вспоминаю, как я тебя обижала. Я вспоминаю, как мы нечаянно обнялись у могилы Александра Сергеевича, спасибо тебе, девочка, дитя, ребёнок мой.
Скоро увидимся? Скоро -- почти месяц. Не буду дома ничего придумывать, скажу, что еду в Москву, родители сами поймут, из-за кого.
До свиданья, моя родная. Будь здорова (...).
В.М.
Киев, 11.10.76 г.
(...) Ты Лине сказала обо мне: "Я очень привязалась к этому человеку!" -- я в это поверила (...).
Вчера была твоя открытка. Полоснуло меня твоей болью, но пиши мне всё, девочка, ведь я всё равно знаю, что тебе бывает плохо, пусть, если это можно, часть твоей боли достанется мне. Мне легче станет.
4 утра. 10.10
Боюсь проспать (уезжаем в колхоз в 7 с минутами).
(...) Моя родная, мне кажется, что ты была ужасно давно. Тоскую о тебе. Вспоминаю разные дни.
В Петровском, 8 июля. Длинный день. Ты пишешь, что мы были -- как пешки. Правда? А мне было наградой, что я могла взять твою руку. А помнишь, как нам дом Ганнибалов показался детским садом? И как ты рвала васильки. И тогда уже берегла меня -- волновалась из-за моей немощи, несла мою сумку. Ласточка моя, как удивительно, и хорошо, и на всю жизнь всё, что связано с тобой. (...)
Благодаря тебе я столько поняла, столько почувствовала, столько узнала о себе -- разве это забыть. Да и не в "забыть" ведь дело. Ведь и правду ты напомнила -- ничто не проходит. Я засыпаю и говорю: Таня, просыпаюсь и думаю, что, должно быть, ты не приснилась мне (...) кажется, это ты писала, что и так ты со мной весь день. Танюша, просыпалась, засыпала, писала с перерывами. Бегу в школу. (...)
Твоя Вера.
Киев. 11.10.76 г.
(...) и видела во сне Сосискина и Ариадну, живую, изящную, очень ласково спрашивающую меня, чем обидел меня Володя. Вдруг ей стало плохо, я поддержала её и думаю: почему она такая лёгкая. Смотрю на неё: профиль тонкий, за окном сумерки, и думаю: ведь только из-за неё не могу уйти, он так меня обидел. Странно правдивый сон.
Начинается утро понедельника. Начинаю думать, как удеру в Москву. Попробую попросить 9-е за свой счёт. Или в счёт летнего отпуска: у меня там будут отгулы за лагерь труда и отдыха. (...) Хочется видеть только тебя.
Да, а лопух Вася напечатал статью об Окуджаве? Потрясена. Что-нибудь изъял? (...)
Твоя В.М.
13.10.76
(...) Ласточка, я нервничаю, поэтому пишу глупости о смерти. Мы постараемся с тобой подольше радовать друг друга. Моя племянница с круглым лицом и круглыми глазами сегодня говорит: "Я королева", -- а я ей: "А я фея Крапивы", -- а она мне: "Хорошо, хорошо! Ты фея Крапивы, а я -- самая ужальная Крапива. А ты ещё -- учителька-отвратителька". Голова у меня идет кругом -- сначала Тарас Бульба -- и голод в Дубно, потом Анька, которая при мне кокетничает и мучит меня: встань, сядь; лезет на меня верхом. Но не думай, солнечный мой Зайчик, что это выглядит трагически. Жизнь прекрасна, потому что есть т ы, моя Жизнь (...).
Вера. Твоя всегда.
16 октября 1976 г.
(...) Сегодня почти не сплю. Есть за что просить прощения у тебя.
А теперь о моём молодом прошлом. Я нашла свои воспоминания, написанные полувсерьёз о своём друге, к сожалению, кажется, бывшем: очень спокойно мы отошли друг от друга (...) Мы познакомились лет 18 тому назад. Вот тебе воспоминания! Без изменений. Давнишняя Малева. Чуть старше нынешней тебя. Примечания современные.
_____
У Магдича была короткая куртка, лёгкие движения, лицо светлое.
Жаль, что Блок сказал уже -- это лёгкое имя Пушкин (нахалка Малева. Во всех отношениях).
____
Он не пил вина из совсем маленьких красных рюмок; на стене была книжная полка, книги самые разные.
Был Бунин; Магдич, хоть и гений был тогда уже, читал его том за томом.
_____
Но гений он был.
Был человек с очень сложной жизнью ума. И это у него легко получалось. И потому ум казался неизмеримым -- можно ли так говорить?
_____
В письмах было много имён. Гений был потрясающе образован.
_____
Книги на полке менялись. Много было о музыке. "Она -- самое высокое, что создали люди".
____
(...) Позже М. сказал: "А.И. -- теоретик!" Вероятно тогда он тоже был теоретиком. А может быть нет?
____
М. и Иванчук (Надежда, сестра) спорили. О жизни.
Как относиться к труду.
Стоит ли быть сибаритом.
Как держать рюмку с вином -- как Симона Синьоре или нет?
Написала я М. глупейшее письмо. Много в нём было молодости и глубоких мыслей. М. ответил. Списком книг -- и даже кое-где фамилии авторов были.
В письме М. обвинялся мною в отсутствии душевных богатств.
Удивляюсь, как после этого можно принимать меня всерьёз.
____
А потом долго М. не видела, но помнила всегда. Потому что знала -- есть человек -- из олимпийцев -- ум его беспределен, мысли неожиданны, улыбка белозуба.
____
21 декабря мы были в "Москве" ("Столичном" - где нас посылали из зала в зал -- помнишь?) Магдич смеялся хорошо, говорил, что у Светланы Полонской низкий голос -- как хорошо, когда у женщины низкий голос.
____
Было тогда ему плохо: умирала мама. Но было страшно спрашивать, говорить. Это было только его.
Позже он как-то писал о миндальном (?) мороженом. Он и мама раздавали его прохожим.
____
В начале июля была в Вильнюсе. Воздух был тёплый и влажный. На почте дали письмо от Нади о смерти Н.Р. (матери Магдича). Ударило больно, хоть всё, что случилось, не было неожиданностью.
____
А когда вышла на улицу, увидела клубнику на серых плитах. Кто-то рассыпал на тротуаре. Люди улыбались и сходили на мостовую.
Люди были в белом.
И были красные ягоды на серых плитах.
"-- Всегда смуглую маму мою помню днём".
____
Увидела М. Осенью, 22 сентября. Были именины Леоноры. М. был сдержан, спокоен. Говорил о гагаринской улыбке. Все любят Титова за интеллект. А М. любил Гагарина. За улыбку. Я тоже люблю Гагарина.
Мальчики в чёрных костюмах пьют на Крещатике чёрный кофе без сахара. Магдич пил чёрный кофе. Сладкий.
____
Потом мы втроем встретились у Леоноры. На Леоноре было потрясающее чёрное платье: сверху ничего -- и с разрезом!
Потом получила от М. письмо. Три строчки:
Мальва! Я радуюсь твоему бытию.
Мальва! Не укорачивай волос!
Мальва! Ты светлый образ моих воспоминаний!
И мне показалось, что все коричневые листья и воробьи -- для Магдича. И я улыбалась им. И написала письмо. Глупое. Восторженное.
_____
Он был сыном солнца. Я тогда не знала, что так называли египетских фараонов. А он был вежлив и не сказал.
_____
Письма его были светло ритмичны.
_____
"Под белым солнцем на горячем песке оба мечтали о женщинах тёплых. Я встретил его и спросил: "Цвета какого солнце?" -- "Красное оно". Разве оно красное?"
_____
"Родился он с сердцами двумя. Любили его. Он тоже сердце отдавал. Одно".
_____
Была болезнь. М. Сказал по телефону: "Если у меня туберкулёз, я буду кататься на мотоцикле. Если рак, я тоже буду кататься на мотоцикле".
_____
И поехал в Одессу на автобусе. Автобус мигал огнями. Давил змей. У змей были нежные животики. Так я узнала, что у змей животики.
_____
В "Песни торжествующей любви" Муций любил змей. А Магдича зовут Аркадий Павлович, потому что мама любила Тургенева.
_____
"В светлой раме окна снег неторопливо никуда не спешит. Вижу, где солнце должно быть. Там светло и нет снежинок.
Читают больные пухлого Шолохова.
А Чудо была вчера. Мягких губ дрожанье дарила.
И куда вы все так торопливо уходите?"
_____
Чудо принесла в больницу трюфели в газете и булочку. Глаза у неё были серые, огромные, волосы светлые.
И мягко дрожали глаза.
И губы были трогательно неопределённы.
И казалось, будто Чудо заплачет сейчас.
_____
Комната у неё была большая, пустая совсем. Это хорошо, когда пустая комната. Легко и свободно тогда.
_____
Ему было неприятно преувеличенное внимание к его болезни (оказался туберкулёз лимфатических желёз).
_____
Уехал весной в Крым на мотоцикле. Прислал в конверте розу. "Брат твой мужественный, подари ему лепесток розовый".
_____
"На шлеме лёд. И это в Крыму, где море. Вокруг чебуреки!"
_____
"Не могу жить без берёз, хоть не люблю их!"
Глава II
"Он всюду был,
Он был везде,
Зачем ему обед,
Когда он видел всех людей
И всем кричал: привет!"
Из Крыма М. вернулся загорелый. Голос его звучал выше, чем обычно. В Крыму ему стало грустно: по ялтинским дорогам ходили классики.
И он опечалился: никогда уже мы не прочитаем классиков, как когда-то давно. С прежней наивностью и слезами.
_____
Летом М. уехал на мотоцикле в Среднюю Азию. Почему-то представлялось: он спит на песке, рядом красный мотоцикл -- тоже спит -- и ползут змеи.
Позже М. поездку описал. Рецензент не нашёл в описании познавательной ценности.
_____
Президент клуба мотоциклистов Магдич выступал по телевидению. Рядом с ним сидела его жена Ариадна Серова, какая-то поэтесса и ещё кто-то.
М. хорошо говорил о своих ощущениях. Потом поэтесса читала стихи и рассказывала, как она ездит на мотоцикле.
_____
Иногда говорили о Магдиче -- эгоист, -- и убедительно объясняли, почему эгоист. И было понятно, что всё равно нельзя было судить, хоть он, наверное, эгоист?
Но нельзя требовать от всех людей жертвенности.
_____
Он писал позже: "Я так люблю людей".
_____
Он отдаёт себя всем: мысли, талант, улыбку.
_____
Бывали минуты раздражения и крика. С гениями случается.
Однажды высоким голосом кричал, что смерть какого-то родственника его не интересует.
Может быть, он говорил правду.
_____
Он наивно верил, что людей должно интересовать то, что интересует его, трогать и волновать тож.
Их волнуют какие-то пустяки.
И это его огорчало.
_____
Он верил, что если с убийцей заговорить доброжелательно, он отложит нож в сторону и укажет дорогу в горах.
_____
В Чечено-Ингушетии он видел аулы и фотографировал их, видел человека, который не ушёл из аула, когда уходили все в дома в долине.
Он не ушёл, потому что в ауле оставалась его собака.
_____
И видел старика, который много пил и, прощаясь, нежно взял М-А за подбородок: "По маленькой?"
_____
И поили его чеченцы молоком из кастрюли.
_____
В Киеве в это время напечатали его очерк о Рахове.
Глава III.
"Скрипичным смычком он играл на альте.
Был у него смычок. Подарили ему альт.
А нужно было подарить скрипку."
"Слепой лебедь летел на юг над гудящими
проводами. Сердце обмирает, когда он один
летит на север"
(из писем).
Опять была весна и М. вернулся из Крыма. В Крыму, в Гурзуфе, он встретил женщину. У неё было кольцо с изумрудом.
" (...) Быть Вам писателем,
Я этого хочу".
Она видела горы и светлые крымские леса -- дары Магдича.
_____
Её надо было любить, потому что она вернулась в холодный город с прямыми улицами (Ленинград).
Она писала долго, а он восхищался ею, письмами, но не мог бросить всё на свете и полететь в Л - д на мотоцикле.
Увидеть её тонкую, с грустными глазами.
_____
Он сказал: "Она знает, что часть моего сердца здесь".
_____
А он казался ей волшебником, подарившим целый светлый мир. У неё был низкий улыбающийся голос.
Когда увидела её, она носила кольцо с камеей и обручальное, плоское, последнего образца. Не спросила её ни о чём. Мало знала.
_____
Навсегда осталось первое впечатление: наверное, некрасива? -- а потом глаза -- и всё, не могу вспомнить лица, а глаза узнала бы.
Она поблагодарила за письмо и не взглянула на него. В рассказ "Красный самолёт" заглянула и спросила: "Это интересно?" Потом заволновалась, не одиноко ли мне в Ленинграде.
Вересаева восхищали петербуржцы сдержанностью, прямотой и правдой.
Я рядом с ней была болтливой провинциалкой (...)
(Продолжение в следующем номере).
Ласточка моя, целую. В е р а .
18 октября 76 г.
Киев
(...) Завтра 19 октября, день братства лицейского, пушкинского, всякого светлого братства. Когда-то поразила меня эта старая мысль: все люди братья, и долго я не могла избавиться от неё: окна утром загораются -- там братья, в метро все друг для друга придерживают тяжёлые двери -- тоже братья -- и во всех пустяках они виделись мне.
(...) И жить бы мне в моей России, и ходить бы по ней пешком, и встречать братьев.
А 21 ноября -- святой Михаил, в Михайловском все празднуют, а мы 21 опять будем далеко друг от друга.
Не печалься обо мне, девочка, ведь я тоже понимаю, какое это счастье вдруг щедро на меня пролилось: такая дружба, удивительная, щедрая, прекрасная, такая, какой не бывает на свете. (...) Солнце ты моё, ты права. (...)-- о чём мечтать? -- Жить ближе, видеться чаще. Как хочется этого, ведь так немного прошу я у этого строгого, старого, беспощадного Бога!
Всё. Не ною. (...)
-- Таня, в Вас пугающая глубина.
Ты (обиженно): -- Да, почему-то пугающая.
А я пугалась своей недостойности, своей неглубокости -- рядом.
(...) светлая моя, девочка моя,
за всё спасибо.
(...) Твоя В.М.
(Тогда же. Из второго письма)
(...) я (...) оптимист, надеюсь, что тебе лучше, что в какой-то момент радость жить, дышать, видеть лес, слушать музыку заслонила Вась, Трушиных и Марью вместе с ними. (Начальство. =Т.Н.=)
Ласточка-девочка,
мой Николка на горке, мой сельский дьячок, найди ты этого юношу (автора. =Т.Н.=), в смысле -- ответь на письмо. Я перечитываю -- как удивительно. Он взялся с тобой за руки. И ещё чего доброго стихи пишет. Или прозу. Физик-лирик. Он мне так понравился, что я даже вздохнула. Где мои 25?!! Прости легкомысленную Малеву. (...)
Твоя всегда.
21 октября 1976. Киев
(...) и всё-таки беспокоюсь о тебе, здорова ли ты? Я ужасно неосторожна тоже и одеваюсь неизвестно как,
а ты будь осторожнее, береги себя,
голубушка моя --
опять память о тебе (...).
Слов мало -- у меня, -- я радуюсь тому богатству, что Бог дал тебе. Какие-то тайны тебе, светлоглазой, открыты - а н а м т о г о н е п е р е н я т ь. (Реминисценция из моих стихов. =Т.Н.=) Тебе открыто удивительно много (...)
не смогу уже без тебя! Ты подумай только: ведь жила, казалось, полно жила, а сейчас -- отними твои письма -- и не смогу, буду задыхаться, как задыхаться, как рыба, да, задыхаться в этой жизни -- со всеми людьми, что мне дороги и милы.
Мне кажется, писала бы тебе, если б даже мы жили в одном городе (...).
Твоя В.М.
Киев. 23 октября 76 г.
(...) В первый раз я видела море в Керчи в 17 лет. Мы работали в совхозе и в воскресенье на попутной машине, в кузове (господи, как хорошо!) поехали в Керчь. Море синее, небо тоже, дома белые, кое-где стены ещё были разрушены, а кое-где с пулевыми отверстиями. И Керчь была праздником. Потом я часто бывала в Крыму и любила и люблю Крым за какую-то кипарисную отрешённость, и сухость воздуха, и прозрачность горных лесов. Отпугивает меня многолюдье, грязная полоса у берега в Ялте, какая-то курортная пошлость лиц.
После приезда из Старого Крыма (почти 13 лет тому назад! Танька, это твоих больше, чем полжизни!) мне странно было видеть в Ялте красивые женские лица. Я вспоминала лицо 70-летней Н.Н. Грин, и оно было чистым и прекрасным.
(...) через много лет после 17 -- в 1970 поехала в Керчь. Вдруг захотелось увидеть море в том городе, где увидела его впервые. Там меня застала холера. Т.е. то, что называли холерой: в море не пускают, из города не выпускают, везде рукомойники с хлоркой, и ходят слухи про бронетранспортёры в степи.
В одну прекрасную ночь мы забрались в контейнер товарного вагона и уехали во Владиславовку, а потом в Москву. Не ругай С о с и с к и н а, он несколько остановок проехал, чтобы накормить меня блюдом: мороженое + банан + варенье: "Пусть Вера знает, как мы её любим!"
Милый забавный Володя казался тогда блестящим, а рядом была Ариадна (Чернова. =Т.Н.=), тонкая и в синем платье. И высокий голос. Прибежала я к ним из Тьмутаракани в Москву на б дней.
Мне кажется, что в Ялте я была ещё раз: то ли на следующий год, то ли через год. И всё.
С тех пор я сослала себя в Михайловское для того, чтоб в 1976 встретить там тебя. (...) Опять утро, опять в школу нужно. (...) Милая моя, нежная, чистая девочка.
Твоя В.М.
24 октября 76. Ночь. Утро
(...) Пришла домой -- давай пол мыть. Мыла-мыла, мысли горькие. Пусто. Ты так далеко (...).
И вдруг позвонил Вася Очертяный. Я тебе обо всех рассказывала, о нём, наверное, тоже.
Вася учился у меня два года -- 8-9 класс. Ушёл в 10 в другую школу. Он тогда позвонил мне: "В.В., я встретил Марию Мих., она сказала, что Вы ушли от Кобякова. Так я Вас поздравить хочу."
(...) В. Живёт с дедушкой и бабушкой. Он мил, прелестно легкомыслен и талантлив (актёр-студент). В школе он мог, прогуливая урок, позвонить (в школу, не домой): "В.В., здесь продаётся "В. и мир" 1869 года, 7 руб., Вам купить?"
Учителя его не любили с каким-то ожесточением. Я никак не могла понять, как женщины могут так ненавидеть ребёнка? Всего лишь за некоторое легкомыслие. Из новой школы он приезжал с девочкой, она тоже готовилась в актрисы. Потом провожала зимой его в Москву с двумя другими девушками, а теперь: "Если разрешат, я приглашу Вас на экзамен по актёрскому мастерству.
В.В., я через год женюсь!" -- "На той девушке, что я видела на вокзале?" -- "Нет." -- "На дочери Николаевой?" -- "Откуда Вы знаете?" -- "Я ведьма". -- "Это несерьёзный ответ. Откуда?"
Я объяснила, и вдруг почему-то легче и теплей стало.
(...) Ласточка моя, дописываю 25-ого. Два дня, боюсь, у тебя не будет писем. Прости, моё светлое солнце (...).
Вера, твоя.
Киев. 26 октября 76 г.
(...) А книги детские люблю!!!
"Гонение на рыжих".
Рыжий -- это не цвет волос. (Говорила тебе). Рыжий -- это черта характера. Мы рыжие.
Яковлев тоже из грядущего доброго века. Когда девочка кладёт ландыш в карман любимому завучу, работает в цирке, ненавидит учительницу -- не то я говорю, я просто сентиментально, по-дурацки эту повесть люблю.
А ещё про довоенных детей есть что-то у одной вашей московской дамы. "Нескучный сад", кажется. (Речь, скорее всего, о повести Л. Уваровой. =Т.Н.=) Всё, останавливаюсь. А то начну проливать слёзы умиления.
Два дня тому назад дети вдруг мне до!! (не знаю чего) надоели -- т а к вдруг надоели!
А теперь ничего. Опять привыкаю. Что-то в них есть привлекательное.
Мы ещё постараемся пожить, побродить по этой земле. (...)
Ласточка, девочка (...). Будем счастливы.
Целую мою рыжую.
Твоя Вера.
2 ноября 1976 г. Киев
(...) Сегодня один отпетый двоечник написал обо мне сочинение. Привожу без изменений: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Задание было -- описать внешность знакомого, друга и т.д.)
_____
ЭТО ПРОСТОЙ ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТНИСЁТСЯ К СВОИМ УЧАЩИМСЯ. ОНИ (!) ОДЕТЫ ВСЕДА КАК ОБНОКНОВЕННАЯ КРЕСТЯНКА В ПРОСТЕЙШОМ РУССКОМ САРАФАНЕ И ЖЁЛТАЯ ИЛИ В РОМАШКУ БЛУЗУ. ЭТО НАШ УЧИТЕЛЬ РУССКОВО ЯЗЫКА.
ХАРАКТЕР У НИХ ТЕРПЕЛИВЫЙ КАК У МОЕГО ОТЦА. У НИХ КАШТАНОВОГО ЦВЕТА ВОЛОС БОЛЬШОЙ ЛОБ, ШИРОКОВАТЫЕ БРОВИ, КАРИИ ОЧИ
КОТОРЫЕ СМОТРЯТ И НЕ ПОКАЗЫ ЧТО ОНИ ЗЛЯТСЯ ШИВИЛЕНИЯ ГУБАМИ.
(ЭТО МОЯ ЛУБИМАЯ УТИТЕЛНИЦА ВЕРА ВИДИАМИНОВНА МАЛЕВА. ПРИЯТНЫЙ ТИХИЙ ГОЛОС).
_____
Вот так! (...)
С рабоче-крестьянским приветом!
В. Малева
(...).
15 ноября 76. Киев
(...) пишу утром в понедельник после бурно проведённого воскресенья: опять Лавра и мощи, София, потом у Милейко обед по-украински и дыня с шампанским. Приятно вспомнить. На вокзале все повздыхали о Михайловском и о вашей -- нашей матери России.
Вернулась -- два твоих письма. Девочка, мне тоже спокойнее и тоже от сознания нашего родства -- удивительного, единственного. (...)
Спасибо тебе, девочка, за воспоминания о детстве. Пиши всё, моя радость. Вся ты -- удивительный, чистый, лучший в мире ребёнок.
(...) Вера. (...)
16 ноября 1976
(...) "Помни имя своё" смотрела, ревела. Страшно меня задела не только главная история, а помнишь -- женщины в товарном вагоне, все радуются Победе, а им нельзя ко всем. (...)
Будь здорова, моя хорошая (...).
Твоя Вера.
Киев. 20 ноября 1976
(...) нашла для тебя у Манна ("Письма", изд. "Наука", 1975 г., стр. 276):
"Кто прожил 75 лет, кое-что знает о милости времени и о том, как терпеливо оно всё исполняет. Он чувствует также известную привязанность к этой зелёной земле, и если он -- так скоро! -- сойдёт в её лоно, то тем поколениям людей, которые появятся на ней под солнцем, он желает, чтобы на долю им выпали не горе и позор озверения, а мир и радость".
Перелистала письма и обрадовалась: Манн и я (!) любим у Фейхтвангера один и тот же роман: "Лисы в винограднике" (стыдно, но признаюсь: ни один другой у меня не хватило терпения по-настоящему прочитать).
Танечка (...) мы не расстанемся. Я постараюсь прожить подольше для тебя. (...)
Родная моя, ты моя жизнь (...), мне не жить без тебя, не смотри такие страшные сны. Он хоть цветной был -- этот сон?
Заяц, открытки лучше заклею, зачеркну -- не могу рвать Олега Алксандровича и Иннокентия Михайловича (Стриженова и Смоктуновского. =Т.Н.=)
(...) Живи светло, душа моя. Вдыхай Москву, Клин, Сергея Васильевича. (Рахманинова. =Т.Н.=)
Будь здорова (...) В.
Киев. 20 ноября 1976 г.
(...) Ты будешь писать когда-нибудь хорошую русскую прозу -- надеюсь дожить до этого и читать тебя, и радоваться тебе.
Позвони Солоухину-то, всё-таки интересно, зачем звонил, и будем вежливы, снизойдём до окающего классика.
А Сикорскому звонила?! Легкомысленная девчонка, (...) солидные мужчины телефон обрывают, а она предаётся светским развлечениям, пьёт пиво за рупь, общается с Васей и Трушиным. О Глушковой рассуждает! (...) Так вот -- мы с тобой сейчас возле Саввино-Сторожевского монастыря. Помнишь кошку? -- Кошка рядом сытая (это я лакирую действительность).
Зелено, пусто. Красное крыльцо. И ты (...).
Живи хорошо, моя родная. Будь здорова. Не презирай Союз писателей.
Их пёсьи головы ещё далеко.
Вася рядом -- отрешимся!
Ты читала "Игру в бисер" Гессе? Я всего каких-то 100 страниц, а потом у меня её забрали.
Удивительно чисто, отрешённо от суеты это звучит. Твоему Манну нравилось! Зайка мой сероглазенький, прости мне всю эту чепуху.
(...) твоя Вера.
21 ноября
(...) Устаю -- да. В этом году, если б не ты, потеряла бы всякую веру в свою нужность и необходимость жить (...).
Киев. 13 декабря 76 г.
(...) Вечер был в субботу, дети вполне трогательно читали стихи. За Окуджаву ты меня бы осудила. Вступление было твоё. (...) С некоторыми пропусками. За это ты меня, может быть, и не осудишь. Но перед "Моцартом" они сыграли на каком-то "электроклавише" начало соль-минорной симфонии. Зал вытянул шеи, а я подумала -- Господи, ч т о моя Танька сейчас бы сказала мне! Нет, взгляд какой у неё был бы.
Дети выглядели мило. Очень. Публики набилось довольно много, вела себя прилично (...).
День был странный. Думала: если бы это был последний твой день, ты была бы довольна им? -- Нет, ещё апельсина захотелось. И умереть, тебя не увидев?
Решили с Кларой сделать Чехова (как хорошо, с Чайковским можно, если не помешают. И с Левитаном).
Вчера Светка Карпиловская сказала, что настоящая глубокая интеллигентность там, где она на народной глубинной основе. И вякнула, что Чехов больше интеллигент, чем Толстой. Я возмутилась и сказала, что Толстой -- вообще не интеллигент. (Как можно определить одну из сил природы?) А Чехова, к сожалению, придётся делать больше весёлого, чем грустного (у нас готовые есть кадры из "Юбилея") Ну, поживём - увидим (...).
Киев. 16 декабря 76 г.
(...) боюсь, что ты тоже получила не все мои письма. Я написала тебе о поэме, трудно писать тебе опять о боли (...). Я всю тебя люблю, девочка. Тебя шестилетнюю с рваной раной, разговаривающую с милиционером, тебя на пустыре и на сцене. И в походе по Смоленской дороге. И у дома Инны с флагом. И без флага.
Как нужно мне каждую минуту знать, что ты есть, что можно дотронуться до твоей руки, что можно увидеть тебя.
Сегодня вспомнила, как (...) мне вдруг стало плохо в гостинице, и я протянула к тебе руку и дотронулась до твоей руки. Мне так захотелось сегодня вернуть эту минуту.
Помоги мне стать сильнее. Помоги мне, девочка. Мне трудно сейчас (...).
(...)
Твоя Вера.
19 декабря 1976 г.
(...) И всегда твой первый взгляд -- скорбный, и мне страшно: какой ценой достаётся тебе радость (...).
(...) ты будешь вечно обновляться и переходить в новое качество; дойдёшь ли ты до спокойной и просветлённой мудрости -- не знаю, может быть, и нет -- слишком сильно, живо, остро ты чувствуешь.
А может быть?
(...) колосочек мой, соловушка мой (...).
Маленькая моя, жду тебя. (...) мой солнечный лучик.
Твоя В.М.
(Тогда же!)
(...) всем нужен единственный друг.
И все знают в детстве, что такая единственная дружба есть. А потом её не ждёшь уже, ведь и я не ждала. Поэтому встреча с тобой (...) -- потрясение надолго, навсегда. Когда мне было вечером плохо, я звала тебя, я произносила твоё имя, моя Таня, чтоб иметь силы жить. Нет, девочка, я совсем не умирала, не бойся, но мне было тяжко на душе, как будто я совершила насилие над собой -- и жить нужно потому, что есть ты (...), мой огонь, мой ребёнок.
Взять твои руки и спрятать в них лицо -- своё, -- чтоб не чувствовать стыда перед тобой, стыда за всё то (...), что есть во мне.
И кто знает, опять будет во мне? Не бойся, не пытайся заранее оправдать меня, -- ты и так оправдаешь. Потому что жить без твоего прощения -- страшно и горько.
(...) каждому из нас нужен единственный друг, человек, который всё поймёт, всё выслушает, который любит.
(...) я помню твоё детство, я представляю тебя совсем маленькой девочкой (...), (,..) а потом вижу тебя старше, в школе -- и у меня сжимается сердце от твоих обид. (...) Никогда не было у меня такой горячей потребности защитить, оградить от нападок злобных дураков -- и не могу, ты далеко. (...) Маленькая моя, не пугайся моих воплей.
Мы есть друг у друга. Это так прекрасно, так редко, так единственно.
Спасибо тебе, девочка, за всё, что ты внесла в мою жизнь. (...) ты моё спасение в этом мире, моя чистая, моя святая девочка. Не плачь, ради Бога, над моими письмами. Ну, а если уж не обойдётся без слёз, пусть они будут лёгкими.
Целую твои прекрасные руки.
(...) Твоя навсегда
Вера.
21 декабря 76.
(...) лучше даже смотреть на мою Вэткину 2 раза в неделю, чем видеть, как роются в т в о и х б у м а г а х или подглядывают за тобой. Меня это окончательно убедило, что надо бежать из твоего "сельпа". (Районной газеты. =Т.Н.=).
Маленькая моя, мы ещё подумаем, как жить дальше, мой смелый и самостоятельный ребёнок. (...) Стихи помню. Заяц ты мой. Ты прекрасный, добрый, счастливый, страждущий Заяц. И больно и сладко читать тебя, девочку. Маленькая моя, сероглазая моя, я целую твой в и с о к, в з м о к ш и й п о д ш а п к о й (реминисценция из моих стихов. =Т.Н.=), и глаза твои, и руки твои прекрасные. (...) Твоя В.
26 декабря 76.
(...) Заяц мой, Володя (Сосинский. =Т.Н.=) живёт на Ленинском пр., (...). Поздравь от меня, душа моя, с Новым годом, он будет без памяти рад, он очень ценит внимание людей, да оно ему очень нужно, хоть он и герой Сопротивления, и "белобандит", и любимец женщин всей нашей зелёной планеты. (...)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 октября 1977 г. Киев
Танюша, моя Таня, Танечка, Татьяна, родная моя девочка, цветок ты мой нежный; всех касается как-то грубость жизни, но как горько, что тебя она касается в виде жмота Альберта, дурака соседа и старухи из Тамбова-Семипалатинска.
Чудо мое прелестное, нежное, живое, будем думать о жизни, ты права. (...)
Проснулась после удивительного сна. Шла по улице (...), со мной две дамы из нашей школы. Я говорю: "Хочется хорошего вина, куплю". А одна из них останавливается попрощаться -- и вдруг идёт молодая еще Софья Яковлевна (учительница, у которой я была на практике, ей 57-58 сейчас), она кладёт в детскую коляску огромный (кг. 10-12) пакет масла и всякий творог; а я вижу только её глаза (огромные -- это правда) и улыбаюсь. Она замечает улыбку, подходит, мы все (они) знакомимся, и С.Я. ведёт меня по Владимирской в какую-то халупу и хочет накормить обедом. Я удивляюсь: мазанка, пол земляной, две чисто застланные кровати, стол, просторно, цветы. И вдруг входит совсем юная цыганка, смуглая, тоненькая, с очень длинными распущенными волосами. Она испугана: в её доме чужие. Мы её сажаем за стол и кормим. По лицу видно, как ей хорошо и хочется спать. (...) она ложится, запрокидывает голову и спит.
Лицо тонкое -- и какая-то совсем Индия.
Откуда ни возьмись, является молодой цыган, очень похожий на моего Коткова (помнишь?), мы указываем ему на спящую, он садится на стул у стены -- и вдруг вламываются мальчики в плащах и с сигаретами -- они хотят выволочь цыгана. Я кричу, плачу, выталкиваю их: "Как вы все можете бить человека, одного?!", -- почему-то телом, кожей чувствую, каково быть избитой.
И знаешь, я их всех вытолкала за дверь!
Повернулась, взглянула на цветы: огромные белые и красные колокольчики -- и проснулась.
3-ий час ночи. Пишу тебе. Прости, моя родная, вчера опять не отослала письма. Сижу ночами, понимаю, что это нервное. Вечером сплю от пережитых днём глупых волнений --
понравлюсь я -- не понравлюсь,
получится урок -- не получится --
ух!
А главное -- что-то неприятное во всех этих волнениях.
Родная, моя родная, нежный мой, сероглазый мой ребёнок, как бы я бегала с тобой в Консерваторию! И со всеми папами-мамами-бабушками.
Родная, не горюй. Мы скоро увидимся (а ведь я тоже не чувствую, что только месяц прошёл, у меня такое чувство, что уже полгода).
Родная, целую тебя.
Увидеть бы тебя сейчас (...). В.
Киев. 19 ноября 1977 г.
(...) не преувеличивай моих заслуг в деле художественного воспитания детей. Это ты солнышко (...) и я хочу к тебе в группу первого класса к синим мышатам и городским поросятам.
А в дворцовый зверинец ты их водила? Я помню, как водила в зоопарк свой любимый класс (тот, что сейчас без конца женится). В пятом или 6 классе мы 1 сентября пошли в зоопарк. И вдруг я не вижу Витьки Стася. Один очаровательный ребёнок мне говорит: "Не беспокойтесь, он пошёл посоветоваться со львом".
Поведи их посоветоваться с шимпанзой, когда будет потеплее. Или уже водила? Как на них подействовали физкультурные упражнения главы семейства?
Заяц, родной, любимый, ты пишешь, чтоб я тебя подольше любила как ребёнка. Я всегда тебя любила и люблю. Друг мой, сестра, ребёнок, светлое чудо (...) преданности, дружбы.
Начала письмо до твоего звонка. Я понимаю, девочка, что кто-то должен взять на себя хоть часть твоих житейских забот. Мой нежный, славный ребёнок, как трудно тебе -- и как я далеко от тебя. (...)
После твоего звонка -- вдруг в половине первого -- опять звонок: "Это ты?" -- голос, который я не хотела бы вспоминать.
Я очень спокойно отключила телефон, чтоб звонок не повторился.
Волнения не было, было равнодушие. (...) И голос какой-то неискренний -- как будто человек силится говорить тепло или взволнованно.
(...) Надеюсь, что всё кончится на этом.
(...) Заяц мой сероглазый (...) как мне хочется жить за тысячу шагов от тебя, а не за т ы щ у километров. Как хочется слышать т в о й голос.
Прости, дружочек, подруженька, сестрёнка. (...) Помню тебя всегда. Со свадьбы провожал меня Саша Курчев, я ему о тебе рассказывала.
(...) В.
24 ноября 1977 г.
Родная моя,
грустно вдруг стало, так хорошо-грустно. Вспомнилась ты -- не нынешняя, а 6-летняя, серьёзная девочка, и ты -- худёныш красивый у моря.
Добрый мой малыш с велосипедом, какая серьёзная грусть в твоих глазах.
Как трудно тебе сейчас, моя девочка, и как я кляну себя за свои привычки: в воскресенье будут люди, куча денег пойдёт на всякую еду-выпивку, а надо думать о тебе. А не о них. (...)
Не горюй. Все мысли мои о тебе. В.
24 ноября 77. Киев
Ты всё время спрашиваешь, смогу ли я обидеться или обидеть тебя, родная, этот страх от твоей незащищённости, оттого, что (...) люди бывали неосторожны. Ты ведь понимаешь, ЧТО ты значишь для меня.
Последний свет, который я не чаяла увидеть-- и увидела; тепло, неожиданно согревшее меня; юность, вдруг потянувшаяся ко мне -- и сознание: я много, так много значу для неё (...), как ни для кого.
Моя прекрасная, помнишь, как юноша в вагоне трогательно называл тебя "Танюха" и хотел проводить нас. Ты удивительно тактична была с ним: не оборвала, не пыталась облить холодом, ты была так хороша, проста, светла (...).
Ты говорила, что мы будем помнить Каменку. (Пушкинскую, на Украине =Т.Н.=). Конечно, моя родная, будем помнить, светло будем помнить. И рассвет 7-го, и шары на окне, и людей за окном -- милый провинциальный праздник:
тихо, хорошо, тепло на душе.
Нам нужен тихий год, чтоб мы перестали плакать,
тебе нужна свобода для стихов, неомрачённость, отсутствие страха -- а вдруг опять ударят.
Звёздочка моя светлая, ясная, добрая,
девочка моя ненаглядная, помни меня.
Будь здорова, пей тёплое молоко (...)
Твоя В.
26 ноября 77 г. Киев
(...) Я видела, как ломаются слабые, как из них в эпохи деспотизма вылезает всё, что спокойно бы дремало при относительно гуманных правителях.
Володя Сосинский меня огорчил, хоть слава Богу, что он жив-здоров. Да, ты права, может быть, но в нём при всегдашнем тщеславии был блеск, такт (как выяснилось -- Ариаднин) -- и пока Ариадна вела его по жизни, не выглядел он так!
Любовь Джалаловну в угоду ему ругать и просто, даже слегка, осуждать не буду. (Жену Сем. Степ. Г е й ч е н к о).
В общем, личность распадается на глазах -- горько.
Любит хвастаться, любит, чтобы его хвалили, когда-то это было забавно и мило, теперь смешно. Теперь и люди у него делятся на тех, кто его хвалит, и тех, кто не хвалит, а потому менее интересен. (...) Спасибо, дружочек мой рыженький, что позвонила дедуле. (...)
В.
Киев. 27 ноября 1977 г.
Зайка, вдруг подумала, что дети любят тебя ещё и за то, что ты не ушла (в самом прекрасном смысле) из детства. И из-за твоих фотографий меня вдруг начинает мучить печальный взгляд твой -- девочки (...).
Сейчас нашла вдруг открытку, написанную в 1976, в июле, своей приятельнице в Киев.
О тебе: "Познакомилась с удивительной московской девушкой; знаешь, бывает: встретишь что-нибудь такое молодое, чистое, талантливое и обрадуешься: слава Богу, ещё во что-то можно верить."
(...)
В.
Киев. 2 декабря 1977 г.
(...) А чтоб у тебя был ребёнок, умный, добрый и сероглазый, мне очень хочется. Обо всём другом не пишу, потому что ты удивительно доверчива и бескомпромиссна (...).
Начало декабря (?) 1977. Киев
(...) Сегодня была у меня Наташка Колыбина и вспомнила, что были стихи, записанные с твоего голоса. И мы, обрадовавшись, решили послушать тебя в четверг, в 5 часов вечера, хоть вечер у нас: Маяковский, Пастернак, Мандельштам, Есенин до 17 -- 20 ч.ч. И будешь ты. Во II отделении. Я почему-то волнуюсь. Хоть будут пироги, чай и домашние дети, -- и надеюсь -- никаких Вэткиных - Палкиных. (...) (Речь о школьной директрисе. =Т.Н.=)
Сегодня одна девчонка из 10-А поднесла мне "Несказанное, синее, нежное..." (На родине Сергея Есенина). Наверное, твоя мама привезла такой же путеводитель из Константинова (...).
Киев. Около 10 декабря 77.
(...) День сегодняшний: утром с мамой поехали во Владимирский собор -- годовщина смерти бабушки. Там оказался праздник. Хор -- тот, что в Рождество твоё и Христово поёт сверху; много священников и служек, возле Христа в терновом венце кладут конфеты, булки.
Мама написала на листке: за упокой Пелагеи, Кирилла, Филиппа, Егора, Марии, Ильи, Анатолия, Елизаветы. Купили мы просфору и свечи. Просфору и список сгребла бабка в корзину, а свечи мы поставили. Служба шла. Носили Евангелие в очень красивом окладе, какие-то круги металлические с блестящими камнями, парчовый священник молился, а потом крестил народ двумя длинными свечами в резных металлических подсвечниках. Потом на возвышение встал отец диакон, перед ним открыли Евангелие, и он глубоким, сильным и взволнованным басом:
не убий,
не укради,
чти отца своего,
чти матерь свою-у-у!
Золотое Евангелие унесли. Хор запел. Я знала только один роспев "Святый Боже". Они пропели 4-5 вариантов. Очень красиво один сопрано, потом с альтами, а когда все -- ещё и с октавой -- совсем хорошо.
Дома -- что дома? Дома телевизор, фигурное катанье, уголовная хроника, Писаренко поёт Булахова, я в тысячный раз разбираю завал в своей комнате.
Святый Боже, помилуй нас.
Вчера вдруг, как и ты, почувствовала, как пора, как совсем пора нам встретиться,
забыть про этот суетный, бестолковый мир. (...)
В.
Около 15 декабря 77. Киев
Малыш мой родной, прости опять, что посылаю такую ерунду. Вышла на 45 минут, чтоб не торчать в этой пыльной школе -- и вся эта ерунда влезла в коробку. "Украинских" сигарет не было. Не трави себя ни-ко-ти-ном. Пусть курят Флора и Петухов.
(...) я всегда была согласна с Чеховым. И буду. (...) звёздочка ты моя, до встречи. (...) Вера.
О ч. 30 мин. 22 декабря. Киев
(...) да в жись не поймёт твоя Трофимовна (соседка =Т.Н.=) любви к кружковцам, не объясняй ей её. (...) иногда не надо делиться радостями с теми, кто их не понимает. (...)
Давай на весенние каникулы попытаемся удрать в Полтаву!
Город побольше Каменки и с литературными музеями -- Котляревский, Короленко, Панас Мирный. И вообще, милый город.
А может быть, отправимся в поход по шолоховским местам, посмотрим, как тюльпаны цветут в степи в конце марта? Ты возьмёшь своих детей, я своих, Дворец даст тебе командировку -- и пойдём в поход!
В общем:
Еней був парубок моторний
И хлопець хоч куди козак...
(...)
7 января 1978 г. Киев
(...) но ведь если Асадов -- член ССП и печатается временами под одной обложкой с Пушкиным и Блоком, -- что уж тут говорить. (...)
"Топить слепыми" -- ты права -- антигуманизм. Просто ты отдашь свой тёплый плащ, а не Ч. или этот фрукт с яз-ви-тель-ным взглядом. (...) В. Малева.
(Вера цитирует моё юношеское: "...Давай тебе свой тёплый плащ отдам? И не гляди на них. Не бойся чуда. Нам не привыкнуть к жизни никогда". Стихи вошли в первые книги. =Т.Н.=)
8 января 1978 г. Киев
(...) Когда-то я потеряла время быть самостоятельной, жить по своей воле (...). Господи, прости меня ещё раз. Ведь ничего не произошло: поговорила с тобой, пошла пол протирать, ткнулась на кухню, мама готовит обед: "Надо было раньше!" Раньше я стирала, писала доклад, а они смотрели телевизор, мыли, чистили всякую посуду.
Я раздражённо забормотала: "Надо было раньше, раньше", -- и отправилась к себе в комнату.
И заревела. Как всегда в таких случаях: от обиды из-за своей несамостоятельности -- ведь сорок скоро. Ведь старость скоро.
На 10 минут позже вымою пол -- кому от этого хуже.
Нет, сегодня с утра какое-то недовольство мной, за что -- не понимаю.
Хочется замкнуться в себе, хочется быть просто вежливой -- и всё -- и не могу.
Не могу пойти и просто приласкаться к маме -- не знаю, что она скажет. В детстве и юности могла и оттолкнуть.
И при этом она хороший человек. Она будет хлопотать из-за чужого человека, она будет стирать, шить мне, а вот иногда понять, что нужно учитывать мою взрослость, моё одиночество, не может. Мои слёзы показались бы ей блажью, поэтому я выучилась плакать потихоньку, в другой комнате, чтоб не видели.
Перед отъездом к тебе я почти всерьёз сказала папе, что уйду из дому. (...) Временами я ненавижу свою просторную квартиру: папа её любит, он её получил, когда ему было уже за 50, лишать его её, намекать на обмен я не могу.
А уйти надо или быть самостоятельной. Не быть деточкой, которую кормят, о которой заботятся, у которой вдруг от этого такая тоска подступает (...).
Написала тебе -- и легче стало, так что не волнуйся, дружочек.
Немножко просто надоела открытость моей жизни: войти ко мне можно без стука, во время телефонного разговора, когда я закрылась на кухне -- значит, не хочу, чтоб слушали, -- можно войти и сесть.
Прости, родная. Мне лучше.
А эти слёзы -- это после света и счастья нашей встречи.
(...) Вера.
12 января 1978. Киев
Моя родная, моя малышка, (...),
не плачь, не плачь, дружочек, мы не оторваны друг от друга, мы вечные друзья, (...) спасибо за письмо. Бегу на курсы.
(...) Да, писала ли я, что была у Васи на открытом зачёте (вернее -- генер. репт. зачёта по мастерству актёра? Вася был Клавдий, хромал и был зол на Гамлета (Ричард III да и только), мне понравился, я привыкла, что Клавдий благодушнее, что ли.
18 января 1978. Киев
(...) Знаешь, нашла у Мартынова прелестные стихи:
Человек,
которого ударили,
Человек, которого дубасили,
Купоросили и скипидарили,
Человек, которого отбросили,
Человек, к которому приставили
С четырёх сторон по неприятелю,
Но в конце концов не обезглавили, --
Вот кто чувствует ко мне симпатию.
(...)
Вот так, моя светлая радость. Достаётся нам. Деликатно говоря, причёсывает нас всяк, любой, каждый.
-- Делайте перекличку!
-- Начинайте с переклички!
-- Не думайте, что голова учителя -- это главное!
-- А на какой странице вы прочитали про интеллигентность?
(...) славная моя, будь здорова, не сердись на себя, жди меня!
Твоя В.
25 января 78 г. Киев
(...) Сегодня нашла начало письма к тебе. Писала я о "Позови меня в даль светлую". Не хватает этому фильму, конечно, Шукшина. Интересно, как бы они с Ульяновым выглядели? Или он играл бы ульяновскую роль?
Как-то местами этот фильм немножко распался. На рассказы. Нет, не то говорю. Нужен нам Шукшин. Чем дальше, тем больше его понимаешь, какая это удивительная драгоценность -- полное боли, пронзительной, обнажённой боли -- сердце. Сердце честного, совсем честного художника. Без единой фальшивой ноты.
Юному снобу этого не понять. (...) Не поняла же Лина (Ошерова), а она н е глуха эмоционально, и вкус есть, и стихи пишет.
Шукшин говорил, что интеллигентность -- нравственная категория.
Не каждому дано это по-настоящему почувствовать.
(...) Всю жизнь было мне не по себе от людей -- определившихся.
Что-то застывшее, пугающее в них есть.
Вот Гейченко -- кричит, дурачится, делает глупости -- он великолепно живой человек (...) он не весь высказался, мне всё кажется, что дай ему волю --жил бы он в слове (в публицистике) мощно, широко, интересно.
(...) Господи, девочка, как много мужества надо тебе! (...)
О приятном. Поляки, мои тонкие, прелестные поляки подарили советскому телевидению фильм "Зима в Желязовой Воле". Играют Шопена, показывают парк, дом. Зима, камин, дрова горят, прялка; -- и вдруг: мы с тобой в охотничьем
домике -- помнишь зимний вечер в "Мысливце"? И стёкла замёрзли, и ряженые смотрят в окно (это уже в фильме) (...).
В.
27 января 78 г. Киев
(...) Как защитить тебя, добрую, страдающую, так благодарно откликающуюся на внимание? Не знаю, девочка. Как люди неосторожны, Боже ты мой.
(...) лесной ты мой колокольчик, (...) сегодня увидела у Таньки Жмарёвой книжку о Маяковском, изданную на русском для иностранцев (...).
"Написать в Москву", -- сказала я. -- "Тане?" --спросила Т. -- "А, ты её видела?" -- "Нет, я просто очень много о ней слышала."
Вот так, дружок мой. Слышала она, конечно, от Линки (Эльки Елишевич) и от Наташи (Колыбиной. =Т.Н.=)
(...) Не забудь, 14 ФЕВРАЛЯ СИМЕОНУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ.
(...) Господи, да ведь ему-то нелегко жить. Зато есть у него его Лукоморье, дом, "Василий Семёнович" (кот), петух за ним бегает -- и живёт он рядом со своей любовью -- Александром Сергеевичем Пушкиным.
Маленькая моя, будем, будем, будем счастливы. Вот ещё 25 минут.
А вдруг тебя нет -- ты в клубе, школе, театре? Не может быть (...)
Твоя В.
29 января 78.
(...) С Флорой я согласна. Все эти слова (...) не твои. Они не вяжутся ни с твоим обликом, ни с необычностью, ни с глубиной.
А мне не сто лет -- ты, дружочек, неосторожна. 100 -- это ФЛОРЕ И МНЕ, думаешь, хочется об этом помнить?
Впрочем, без этого "к л ё в а" я тебя уже не представляю!
_____
Вчера был вечер французской поэзии. Т.е. Наталья и Серёжа (её приятель с курсов) читали стихи по-французски и русские переводы. Взяли XV - XVIII век (начало XIX). И опять: как изящен и совершенен Александр Сергеевич. Чудо какое-то. Когда читали рядом несколько переводов одного стихотворения, он звучал и поэтичнее, и таким совершенством!
На следующем занятии решили заняться поляками. Серёжа знает польский -- этому Серёже цены нет! Только он ещё молодой петушок, и мне пришлось немножко с ним поспорить. Помогло знание (поверхностное) украинской поэзии (он её вообще не знает).
Прошли вечером по улице. П е р я (Перковский, ученик.=Т.Н.=) был очарователен. О нём напишу отдельно.
Будь здорова, моя голубушка. Твоя Вера.
МОЯ ТЫ САМАЯ РОДНАЯ, УСПОКОЙСЯ, ДРУЖОЧЕК.
8 февраля 78. Киев
(...) Мне вдруг от всех этих метелей так в столицу, в Погодинскую избу захотелось. Пить чай с малиной, ходить с тобой в Консерваторию -- вот счастье, вот права!
(...) К кремам прибавился новый Межиров. Куда слать?
Твоя В.М.
9 февраля 78 г. Киев
"Перешагни, перескочи, перелети, пере -
что хочешь, --
Но вырвись: камнем из пращи.
Звездой, сорвавшейся в ночи..."
(Ходасевич)
(...)
11 февраля 78. Киев
(...) Нейгауз заболел, а я (...) побежала покупать пластинки.
Была куча народу, в отделе классики продавали песни Мартынова, все толпились. С моей расторопностью, пока я купила Бортнянского (...) стало 20.15.
(...) побежала наверх, в 20.41 была на станции, прибежала домой -- Дворец молчал.
Грустно, светло (...) сейчас на душе. Получила письмо о Иване. Добрый ты мой кутёнок, ведь он с ы н, поэтому не будет мама смотреть на него твоими глазами. (...) И спрятаться от правды легче, чем признать её, и обидеть тебя легче, потому что ты любишь и на обиду обидой не ответишь.
И почему так легко нас обидеть?
Душа моя, жизнь моя, как мне хочется светлого счастья для тебя.
Смотрела сейчас трогательно наивный фильм 50-х годов. Сибирская стройка, любовь -- хорошо! И знаешь, что жизнь грубее, тяжелее, но всё равно -- пусть где-то ходит красивый доктор, и любовь пусть у него образуется (т.е. у неё),
а мне тяжело, -- отчего?
Я не слышала сегодня тебя, не знаю, где ты сейчас, моя душенька, дружок ненаглядный.
Целую. Вера.
Киев. 12 Февраля 78 г.
Дорогая моя девочка, светлая моя, чистая моя, родная моя, грустный мой голосочек, такой грустный-грустный, звёздочка моя, н е г о р ю й. Не надо, моя родная. Ты слишком чистый и честный ребёнок, чтоб отшутиться в ответ на бестактность. Мой умный дружок.
(...) Я всё время разговариваю с тобой. И потихоньку целую твои письма. (...) В субботу был гоголевский вечер для семиклассников. Ставили "Ночь перед Рождеством", кусок "Ревизора" и ещё разные куски и кусочки.
В "Ночи" девочки пели щедривки славно, чисто, в 2 голоса (класс подбирался по голосам и был спецкласс по пению (...)).
И знаешь, когда они на репетициях запели, я чуть не разрыдалась: это была мелодия, которую мы слышали с тобой во Владимирском соборе. Только 7 января во Вл. всё кончалось: "С и н Б о ж i й народився"., а у девчонок "Piк новий народився" -- плоды атеистического воспитания!
Детям вечер понравился. (...)
Жду тебя. Не беспокойся, если не выйдет 5 - 8. Встретимся на каникулах. (...) Твоя В.
15 февраля 78. Киев
(...) вчера с мамой ходили в консерваторию -- 300 лет Вивальди. Мама сказала: музыка для услаждения слуха.
Я вдруг вспомнила родной 18 век -- им, наверное, грезилось впереди светлое, не провидели они атомную войну и верили в свет.
Спасибо тебе, дружочек. Благодаря тебе меня опять потянуло к музыке. Я решила слушать подряд. Возьмёмся за старичков. Пришли мне рекомендательный список. Я хочу учиться!
Зайка, я всё думала о тебе. Петь тебе всерьез надо. Романсы.
А я поплетусь к подножию Парнаса и построю внизу избу. И буду слушать музыку. И настанет царство Божие на земле.
(...)
Гейченку ПОЗДРАВИЛА С 75 - ЛЕТИЕМ???
Можешь успеть; с юбилеем можно круглый год поздравлять.
Целую Зайца. (...) Твой Шизик (...).
16 февраля 78. Киев
(...) Да, восхищалась я 18 веком полдня, а потом -- вдруг! -- так чего-нибудь чайковско-рахманиновского захотелось -- и утонуть чтоб в музыке! Никогда не забуду этого тебе!
Сейчас Ираклий рассказывал о Невском. Оказывается, "Торжественная месса" исполнялась впервые в доме Энгельгардта на Невском, в 1824 г. -- и это было первое в мире единственное при жизни Бетховена исполнение!
И Ираклий (Андронников.=Т.Н.=) там был и мёд-пиво пил.
(...) Друг ты мой добрый!
В.
Киев. 17 Февраля 78 г.
(...) Завтра у меня на факультативе Цветаева, надо ещё Бог знает сколько написать, перечитать. (...)
Статьи о ней что-то не ложатся мне на душу -- достать бы шестнадцатилетнюю Ариаднину статью о "Царь-девице".
Чувствую свою бедность и немощь. И неприятное чувство, что способствую произрастанию юных снобов.
Элька сегодня на уроке о поэзии 30-х г.г. принесла Пастернака. Читала его неважно: т.е. старалась читать "с выражением", кое-где глотала концы строк. Публика слушала внимательно, но не угрызла Пастернака. Угрызла Кедрина. (...)
(...) А в "Авроре", говорят, статья о Гейченко.
Целую. Вера.
19 февраля
Малыш, никогда и НИ НА ЧТО Я НЕ ОБИЖАЛАСЬ.
ПОМНИ, дружочек сероглазенький,
подруженька моя добрая.
ПОМНИ! Целую мою нежную, добрую, светлую, родную.
В.
Киев. 26 Февраля 78 г.
(...) На днях была забавная история с Володькой Котковым (помнишь красивого мальчика-цыгана?) Он ходит на уроки без тетради. Я спросила, кто подарит Коткову тетрадь. Один растрёпка Хоменко вызвался. И обещал подготовить речь. Мы все развеселились и назначили ещё двух ораторов.
Котков, глядя на меня в упор, медленно сказал: "Ну и очень глупая мысль, глупая". Мне стало смешно, но я изобразила обиду и сказала: "Вам приходят в голову только умные мысли? Когда-нибудь я назвала чью-нибудь мысль глупой? Что ж, тебе придётся идти и искать умного учителя". Котков начал писать на каком-то огрызке. Зашебуршился -- я ему: "Хоть ты уже не мой ученик, веди себя -- и т.д."
Перед следующим уроком подлезает он к моему столу: "В.В., Вы меня простите: я не ставлю Вас глупой." -- "Ты, значит, думаешь, что я умная?" -- "Да, и я ставлю (это "ставлю"!) Вас лучше других, потому что Вы добрая".
Надеюсь, что искренен этот дурачок. Впрочем, кто знает.
_____
Сейчас позвонил Вася. Он кончает театральный. И что печально -- закулисная сторона театра уже настолько знакома ему, и Ксюше, его прелестной жене. Наша русская драма поставила "Горе от ума". Не рискну пойти, Вася: "Кого Вы там увидите? Актёров, привыкших орать друг на друга на партсобраниях?" Страшно мне жалко, что в "Гамлете" он будет играть Горацио, а не Клавдия. Он был сухой, жёсткий и какой-то непривычный Клавдий. Я расстроилась и сказала что-то о взлётах и падениях, он горько ответил: "Что ж, будем надеяться, что когда-нибудь начнутся взлёты. А пока падения -- и одно другого больнее".
Прости, мой дружочек, за этот сумбур. (...)
Твоя В.
Киев. 28 Февраля 78 г.
(...) да отнесись ты к Гейченке снисходительно! Прими его со слабостями. Барин ли он? Не знаю. Знаю, что человек, уже 75 лет проживший, выдержавший допросы, тюрьму, лагерь, войну --
омовение кровью --
полной мерой! И нервишки поистрёпаны,
но какой он прелестно озорной, какой живой, да пусть говорит не о тех молитвах (любит-то он те, что нужно любить). (...)
Он живой, широкий, могучий, он артист -- пусть несёт околесицу -- он ЧЕЛОВЕК. Наверное, я просто люблю его и боюсь.
И страшно мне от сознания какой-то огромной силы, заключённой в нём.
Что это? Сила жизни? Живучести? Талантливости? Неуёмности?
"Воно знову оживае i смiеться знову..."
Могучий Симеон. Помню его седую голову во Владимирском. И как он подошёл к нищей. И как боль на его лице -- упал человек, -- он почувствовал физическую боль, в этом я не сомневаюсь.
А ведь я знаю о нём много плохого.
Всё отступило. Есть чёрная скуфейка, книги, кот учёный, кубышка, есть однорукий хозяин -- дух Михайловского --
на радость всем добрым людям!
(...)
Чудо! сероглазое!
приезжай!
Целую!
В.
11 марта 78. Киев
(...) Обещала длинное письмо, а сама просидела битых три часа с Элькой над докладом о поэзии Бунина. В полдевятого я её выгнала из дому, хотя она порывалась доклад дописать.
Она ляпнула: "Мне кажется, что Тане Никологорской должны нравиться в поэзии модернисты." -- "Какие?" -- "Ахматова, Цветаева". -- "Ну, такие модернисты -- да".
Она засмеялась и объяснила, что не модернисты, конечно, а не совсем традиционные поэты. (...)
Прости, что глупости пишу.
Вчерашний день: 6 уроков в 10 кл., "Хождение по мукам" -- Рощин и белая гвардия, Бунин;
сегодня -- 7 класс и Бунин после 4-ых. Зайка, прости. (...)
Твоя Вера.
12 марта 78 г. Киев
(...) От Володи получила открытку. Конец опять: "Очень тебя люблю, хоть ты и в стане моих врагов". (...) Некогда было отвечать (он просил выслать письма (копии) Ариадны Эфрон), но я всё-таки написала, что мне горько слышать -- в стане врагов -- я и надеюсь, что это не совсем серьёзно.
Симонов написал ему что-то хорошее о "Битве за Францию", и ребёнок Володя думает, что её напечатает "Новый мир"
(...) Заинька, родной, молюсь за тебя. Людям, что вокруг, чтоб были бережнее, Богу, "Сов. писателю" и т.д. (...). До свидания.
(Речь идёт о В.Б. Сосинском. =Т.Н.=)
21 марта 78. Киев
Танюша, мой родной, большеглазый, добрый ребёнок,
ведь я чувствовала, что ты позвонишь. Позвонила с утра домой. Мама подошла к телефону -- и я впервые услышала, как её голос похож на твой. И почувствовала нежность. И, конечно, промолчала. Поняла ли она, что это мои художества?
Соскучусь по тебе -- буду звонить м а м е, И н н е, Р е г и н е, Ф л о р е, В а р в а р е, Е л е н е Д а в ы д о в н е, Б а ш к и р о в у и П л е т н ё в у.
Заяц, Заяц, надо пережить ещё один момент: сообщить родителям, что еду в Москву. Решила сказать правду. То же, что и у тебя: пора приучить их к пониманию, что я имею право на свободу передвижений. Россия -- моя Родина.
Страшно поразило меня сообщение об отлучении от России Ростроповича и Вишневской. Сердце разболелось.
Приеду. Встретимся, родная ты моя.
Целую. Вера.
31 марта 78. Киев
(...) увёз меня этот грязноватый поезд (с очень милыми темноглазыми проводницами), соседи были москвички из Медведкова (...), они ехали женить сына-племянника в Кишинёв, лица у них самые простецкие -- тёти Нюши, Клаши, -- выговор хороший, русский, мужья-пьяницы; у одной, помоложе, сын отсидел 10 лет, муж пишет записки с угрозами убиться; показалось мне, что она с горя может выпить, очень уж она с дрожанием в голосе говорила об ей, родимай (водке, то есть): "Купи, Серёжа, чекушку, не могу больше этой жизни терпеть!" Работает она в общежитии (студенческом) комендантом (...).
Жалко (...) и её, и её сестру: что-то в них погасила эта жизнь, как бы там Аввакумова ни поэтизировала женщин, воющих (в самом хорошем смысле) на могилах мужей-забулдыг и драчунов.
Третья женщина была красивая, 62-летняя, окультуренная службой в бухгалтерии и чтением газет (и романов), глаза голубые, что-то в ней было привлекательное;
все мы разговаривали, я их выслушивала, и расстались мы в Киеве дружески.
Мне в некоторых местах разговора становилось вдруг больно: вот это тебя покоробило бы, от этого было бы неприятно, а я слушаю. Необыкновенное ты моё дитя, прости меня. За то, что не могу быть вровень с тобой, за то, что бываю (...) несдержанной.
И опять -- обманчивая видимость: женщина-бухгалтер сказала мне: "Вам идёт быть учительницей, Вы такая спокойная". Я не возразила: что я могу ей сказать? (...)
Женщина, у которой муж дерётся, рассказала мне, каким должен быть учитель: ходить в походы, по домам учеников и т.д.
Я покорно всё выслушала. (...)
(...)
1 апреля
Доброе утро. Мой светлый ангел, сероглазенький мой.
В.
Киев. 10 апреля 78 г.
Родная моя девочка, еловая веточка, дурачок рыженький,
как я тебя люблю и как это на тебя похоже: последняя десятка после "Страстей по Матфею".
Прелестный мой дурачок, не беспокойся ради Бога, ты не обидела меня (...).
(...) Л. позволяет чужому мужчине, не отцу -- да и отцу нельзя, это недостойно мужчины -- бить ребенка. И это после её нападок на систему общественного воспитания, это при её тонкости, изнеженности, неприятии даже Чехова -- груб!!! Нет, не груб, а н е добр, по её мнению, Антон Павлович.
Меня всегда бесили эти представления о доброте. Человек лечит, учит, гибнет от чахотки -- не добр! Шукшин -- туп, Толстой не искренен -- Господи, куда деваться от такой тонкости, интеллигентности, светскости.
"Если он так любит своего Чайковского..."
Да, у меня опять чувство, будто меня выкупали в грязи -- и надо отмыться. (...)
В.
12 апреля 78 г. Киев
(...) Сегодня в книге Вечёсловой "Я -- балерина" нашла чудное и касающееся нас высказывание одной норвежской писательницы: "Хорошие дни выпадают на долю разумных людей, но лучшие дни достаются тому, кто посмеет быть безумным." (Сигрид Унсет).
Сама вечёсловская книга мне меньше понравилась, чем эта цитата, впрочем, может быть, я придираюсь.
(...) От Володи (Сосинского. =Т.Н.=) получила открытку из Батуми. (...) Да простит меня Бог: последние годы я была невнимательна к нему: говорила обида за себя, за Ариадну. Теперь понимаю, что была не права -- не хотела видеть, что многое у него просто от старости, от желания схватиться за жизнь, казаться мужчиной -- простить это надо (да и вообще -- не судить!), а я судила, мне хотелось видеть его мудрым -- зачем?
После открытки отлегло у меня от сердца: надеется в августе быть в Михайловском -- знаешь, страшно думать, что кого-то из тех стариков, что я люблю, когда-то не будет в моей жизни.
(...) Моя сероглазая, (...) прости меня за все неосторожности и неловкости, ты так удивительно умеешь прощать, ты так боишься моих слёз (...), мой светлый, мой чистый, мой добрый ангел. (...) я знаю, как светло нам было рядом.
Я молюсь за тебя, я мечтаю о встрече, мне хорошо, грустно, молодо. (...)
В.М.
Киев. 17 апреля 78 г.
(...) помолись за меня, мне не хочется перемен, я их боюсь; я привыкла к детям, они уже мои родственники, и мне жаль рыжего Долгушина, которого я в 4 классе обозвала Юлием Цезарем (рыжий с потрясающе медальным профилем), а в 6-ом -- дамским угодником, что, как оказалось, запало ему в душу; оставшись на второй год (не по моей, конечно, вине), он сообщил об этом прозвище новому родному учителю русского языка. Так вот, мне будет без него кисло, скучно, непривычно.
Ладно, не пищу, совсем не пищу.
Моя ты родная, как мне надо жить и работать рядом с тобой.
Была бы я X л о р о й, уж я тебя поздравила бы с газетой и шампанского бы с тобой выпила.
А потом мы бы ездили по Москве в троллейбусе и в метро. И было бы мне хорошо и легко, оттого, что ты рядом (...).
18 апреля
(...) каштаны выстрелили за окном своими огромными почками, стало тепло, кто-то там что-то щебечет, пищит и волнуется.
Жизнь, как видно, хороша, и позор всем, кто нам её портит весной, осенью, зимой и летом.
Не на то Бог создал нас и деревья, и снег, и небесную твердь.
Целую, ёлочка моя лесная.
В.
(...) да, Леонора принесла на именины новый гороскоп -- деревьев. Ты родилась под елью, я -- под ясенем. Твою судьбу тебе пришлю -- там насчёт таланта есть. Не смейся, кое-что правда.
Целую, Заяц.
Твоя В.
22 апреля 78 г. Киев
(...) Вчера не могла позвонить, потому что была в консерватории. В первом отделении -- Скарлатти, Гайдн, Прокофьев, во втором -- Брамс. Играл Керер.
В Киеве двери хлопают и кресла скрипят ещё в начале концерта.
Профиль К. напоминал игумновский. Лёгкая музыка звучала несколько печально. Рядом со мной (я сидела в проходе, у входа, сбоку) появился прелестно лохматый юноша с маленькой складной полотняной скамеечкой. Он поставил её и уселся. Пальцы у него нервные и тонкие, но ногти для пианиста длинноваты.
В первом отделении успех имел Прокофьев, после 2-го отделения (...) Керер объявил Шопена "интеллигентным голосом" (...), первым сыграл ноктюрн, который я не узнала у Башкирова; публика, как всегда, занималась вымогательством. Сыграв трёх Шопенов, Керер вышел и, подняв палец кверху, садясь за рояль, последний раз сыграл, публика вела себя вполне прилично; одни юноши говорили: "Тяжёлый композитор Прокофьев", -- другие дамы со следами консерваторского воспитания: "Я этой сонаты никогда не играла"; д а, а когда юноша со скамейкой в антракте исчез, я заскучала, но вдруг во втором отделении он появился (...) и на душе стало спокойно.
Волосы у него, как у меня, растрёпанные, и мне захотелось запустить руку в его вихры и сказать: успокойся, ребёнок, всё будет в порядке.
Я это сказала про себя, вела себя прилично, как старая бабушка.
Полюбовалась на консерваторских старушек.
_____
Сейчас, утром, папа говорит: "Наверное, Таня вчера звонила".
"Ты сказал, где я?" -- "Я хотел, но она сказала: "Извините", -- и повесила трубку".
(...) Ты звонила, ничего не случилось, моё солнышко, мой родной воробей, мой сероглазый ангел.
(...) В.
Киев. 23 апреля 1978 г.
(...) Душа моя, жизнь моя, приезжай. Вероятнее всего, жить будем у меня, если не удастся на реке.
Съездим в Чернигов на денёк -- очень хочется.
Зайка, как ты можешь говорить о каких-то моих последних деньгах: ты мне две поездки в Москву устроила-оплатила, дурачок сероглазый.
Да, от Володи получила славную открытку, просит сообщить, когда буду в Михайловском -- и он тогда туда приедет. Славный и добрый Володя. Представляю его успех в Батуми, среди пальм и павлинов.
Зайка, родной, до свиданья, голубчик, целую. Вера.
Киев. 27 апреля 78 г.
(...) Не горюй, дружочек, не горюй, пусть снятся тебе светлые сны, мы встретимся скоро. (...) ты никогда не давала мне остаться со своей болью, никогда. Ты пугалась, когда даже меня чуть-чуть что-нибудь задевало, ты утешала меня -- и это меня избаловало. Прости меня, мой красивый и умный дружок.
28 апреля 78. Киев
(Открытка)
(...) Читаю "Две зимы и три лета", до чего грустная книга, какая-то бесконечно грустная. И ты, моя родная, из тех художников, что лгать не будут. Моя родная Марфа Посадница. Не знаю, куда улететь, как сбросить тяжесть ненужных условностей, как избавиться от поучений.
Не знаю, девочка. Будь здорова, моя родная. В.
5 мая 78. Киев
(Открытка)
Моя милая девочка, не знаю, когда уйдёт эта открытка с вокзала. Побрела по вокзалу, на сердце вдруг тянущая боль -- не буду думать о доме сейчас. Если мама меня не опередит, завтра вымою пол и буду тихо страдать.
Купила на развале "Время "Тихого Дона" и "Усвятских шлемоносцев" Евг.Носова. Открыла первую страницу: неторопливая русская проза.
(...) Заяц, добрый мой, ты сейчас уже выехал за Дарницу. Счастливого пути, дружок. Целую Вера.
10 мая 78 г. Киев
(Открытка)
Девочка, в походе дети сняли с меня двух пауков, сказали, что к письмам. И правда -- два письма: от тебя и от Звездиной Н.А. Страшное совпадение: ты пишешь о поэте А. Брагинском, она пишет о смерти матери поэта А. Брагинского. Наверное, наши Брагинские -- разные люди. Какие, однако, совпадения бывают. (...) В.
Танечка, Танюша, пришли стихотворение о Шостаковиче.
Киев. 15 мая 78 г.
(...) ты должна понять, что сейчас мне одно спасение -- письмо от тебя. Получила два. Но первым прочитала письмо от тёти Дуси из Селенского (испугалась, она почти не пишет). Письмо было такое: ЗДРАВСТВУЙТИ ДОРОГИЕ РОДНЫЕ ВСЕ ЖИВЫ РУКА БЫЛА У МЕНЯ СЛОМЛИНА СТАЛА СОХНУТЬ А ТЕПЕР СЛОМАЛ НОГУ ВАСИЛИЙ ШОЛ СРАБОТЫ МИМА ЛАВ УРЕЧКИ ЖИВЁМ ПОСТАРОМУ ПРОЕЗЖАЙТЕ КНАМ ПОГОДА У НАС ХОЛОДНАЯ КАРТОШКУ НЕ СОЖАЛИ ПОМЕР МУРИН ВОЛОДЯ МАШИН ПЛЕМЯНИК ОТ ВИНА ПИСАТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО ЗАТЕМ ДОСВИДАНЬЯ.
Вот так просто. Живы. Дядя Василий Кириллович ногу сломал, маленький мой дядя, похожий на маму, только тюрковатее. И кто-то от вина помер, а больше нечего писать. Просто как и хорошо, а берёзы там у дороги могучие, и шиповника много, и кладбище у церкви просторное, и наши там, крутовские могилы. В тот приезд (1975) посыпали мы зёрен бабушке на могилу. В детстве дядя Вася мне про Илью-пророка рассказывал, а тётя Дуся про нечистую силу. В Илью-пророка я как-то не вполне верила, а про нечистую знала: может быть?
Вот там, как и в Михайловском, тоже моя земля, та земля, что мне здесь, в цветущем Киеве, снилась; до сих пор помню сон: лежу с закрытыми глазами на траве -- зелёной, а в глазах -- солнце. И запах сена раз в жизни снился -- да так ясно, что верить не хотелось, что это сон.
А в сердце какая-то подлая пустота сейчас. (...) сегодня было собрание. (...) Мне жаль, что я выступала. Я глупо волновалась. Один раз замолчала, потому что боялась заплакать. А такая ерунда всё. И плакать не стоит. (Речь идёт о закрытии школы. =Т.Н.=) Будут другие дети. Котков, цыган, премьер и красавец, сказал, что разыщет меня в любой школе.
Господи. Боже мой, зачем ты дал мне глупое сердце, болящее по всякому поводу? (...)
Всё, выплакалась тебе -- легче стало.
Как-то сегодня твой полетаевский, Володин вечер? (Вечер памяти поэта Володи Полетаева. =Т.Н.=)
Странно, теперь мне кажется, что я слышала фамилию: -- Брагин.
А о Брагинском я тебе рассказывала, наверное: купила за 6 копеек сборничек харьковского издательства "Прапор", на обложке поэт со скорбными глазами, написала отзыв -- пришёл ответ от него, начали писать друг другу, приехал с есенинской головой поэт Иван Петров, потом в Харькове я зашла к Брагинским, и Алик-Саша поразил меня желтизной лица, непомерным вниманием к себе -- ах, я так хорошо выглядел зимой! -- я (...) не поняла, что это и от болезни тоже. И полюбила его прелестную маму -- волосы великолепно золотые, сероглазая, красивая, внимательная ко мне, я ей все три дня цветы приносила, а она думала, что это не ей, что просто стесняюсь отдать её сыну: она считала его выдающимся поэтом. Стоило ли, человечно ли разубеждать?
В 1976 году, похоронивши мужа и сына, она приехала в Киев к сестре. Всё такая же красивая и удивительная в горе.
Письмо о её смерти написала мне соседка. Пишет, что умерла она, до последнего дня окружённая любовью и вниманием друзей, "по-человечески". Называет её мудрой и пишет хорошо, чувствуется, что не после смерти -- хорошо, а что всегда так о ней думала.
Вот ещё душа ушла из мира. Сегодня вдруг очень ясно увидела Ариадну и ощутила свет, исходящий от неё. Господи, как мне хочется верить (...).
В.
P.S. Спасибо за Шостаковича и за "тяжесть благородства". "Н.М." она не досталась, хоть может, и не добра я к нему. Коту ангорскому. (Речь о моих ранних стихах, ж-ле "Новый мир", поэте и его сотруднике Сикорском =Т.Н.=)
Около 16 мая 1978. Киев
(...) Сегодня Элька, Саша и Наташа отвели меня на "Древо желания" (Так у В.М. =Т.Н.=) (Грузия-фильм). Это не так потрясает, как "Пиросмани", но это сильно. Если не смотрела, пойди, можно с детьми. Какая удивительная земля -- Грузия. Какие они философы -- кроткие, буйные, любящие, жестокие.
И мудрый, добрый взгляд на людей. И трагическая любовь, Я боялась трагедии, но ясно было, что счастливой Грузию прошлого не сделают. (...)
Но какие люди грузины!
Поэтому в конце, когда прекрасную женщину за любовь не к мужу (самую чистую) везут на осле и забрасывают грязью, и все (почти все) мужчины идут за ней -- страшно, у меня до сих пор не проходит это давящее сердце чувство.
На "Пиросмани" я ревела, как ты помнишь. Потому что это потрясающе, как там сделана трагедия художника. Здесь больше красок: маки красные, горы зелёные, зима, гранатовое дерево, святые глаза чудака, ищущего волшебное дерево, а потом его дочери, тоже (после смерти отца), просящей Бога помочь найти... (и это конец -- ч т о найти?)
Дети целуют камни храма -- труд их народа, свечи в храме, в общем, видишь, девочка, я никак не могу остановиться.
Непременно пойди. Фильм 1976 года, у нас шёл один день в клубе завода "Арсенал". (...)
Твоя В.
18 мая 1978. Киев
(...) я никогда не говорю о твоих стихах, потому что я профан, невежда, как же ты этого не понимаешь?
Мне они дороги, кроме всего прочего -- их чистотой (не утончённостью, хоть и она есть) -- скорее влекущей иррациональностью, в них ты -- мой нежный, ранимый, чуткий друг (...) это твоя трепетная, нежная душа, как касаться её! (...)
Я боюсь говорить -- при тебе! -- о поэзии, сероглазый ангел.
Дурашка мой прелестный, моя нежная девочка, не огорчайся, ради Бога. (...) Я засыпаю.
ИРРАЦИО -- ЭТО ПРАВИЛЬНО??? Или нет?
Зайка, ночь уже. Спи, мой дружок. Какие глупости я мелю.
Прости. Очень, очень люблю тебя, моя маленькая!
В.
05.8.78. Пушкинские Горы
Родная моя,
мне сейчас снилось, что я жду тебя на Белорусском вокзале. Там совсем тихо, деревянные лавки, я понимаю, что это не тот Белорусский вокзал, но понимаю, что должна ждать тебя здесь.
Потом проснулась, взглянула (на часы): ты спишь, и у меня начался другой сон: про твоего сына.
Он учит гаммы, не любит этюды Черни, и я объясняю почему-то Лине, что он музыкален очень -- не гений, но музыкален. Я сама думаю: почему ты скрывала, что у тебя есть сын, и как хорошо, что ему уже 6 лет.
А ты всё спишь, Заяц.
Я не засыпаю, потому что боюсь не увидеть 3-его сна про тебя
Спи, моя сероглазая, спи, моя нежная девчонка.
В.М.
8 августа 78. Пушкинские Горы
(...) никогда я не прощу этого пошлого "по-евтушенковски" вопроса, заданного мне, когда мне было плохо. И не потому, что было плохо, - вообще не прощу. Он отрезал нас друг от друга и показал мне, что не было любви.
Совершенно неожиданно для себя, встретив его через полгода, я так разволновалась, что не смогла вначале говорить. Отчего это было, я не знаю.
Ты оправдываешь меня в этой истории и жалеешь, что нет ребёнка.
Во всём виновата я.
Он тоже виноват, но не в том, что не любил меня. А в том, что оказался не другом, даже просто не товарищем.
Он играет в преферанс, читает Сологуба, Гумилёва, любит бабушку; Россия -- не знаю, что она для него, -- видишь, -- не знаю; что она для Онегина? Кто знает. Чаадаев -- уж скорее европеец, западник, обругавший русское прошлое, -- не смог прожить без России, вернулся для допроса к Николаю, он, Ал., -- не Чаадаев, а видишь -- не знаю, кто он.
И в этом мой грех. Какая-то неотвратимость была во всём, что случилось.
Я себя не простила. (...) У меня не хватило сил жить не так, как все. (...) Простая Цаплина оказалась сильнее и бесстрашнее меня.
(...) Тайна всё это. А.С., мой любимый мужчина (Пушкин. Т.Н.), прошёл мимо любви Ушаковой и, наверное, ещё мимо каких-то чувств -- и вдруг судьба -- Гончарова. Неотвратимость судьбы.
Царский двор? Может, ты и права. Только мне не кажется, что бросался он туда, а взяли его, как на параде -- проходят даже потерявшие сознание -- плечом к плечу, -- взяли его, крепко, обещал он в дневнике быть русским Д а н ж о (кажется, не путаю фамилии), а не стал: то ли ещё дневник есть -- и потерян, то ли нет дневника, а была жизнь с заботами о куске хлеба -- не в самом уж таком ужасном смысле, о жене, о детях, был круг жизни, предначертанный -- кем? Не только им. Никуда не денешься.
Какие-то тысячи причин не выпускают из привычных (или предписанных) рамок. (...)
"...Зависеть от царя, зависеть от народа -- не всё ли мне (нам) равно..."
Как будто предвидел, что будет у нас не высокая, по воле своей, с любовью к нему зависимость от народа, а навязанная и выдуманная, без веры в его будущее, когда его будет и Ахматова, и Мандельштам, -- придёт ли времечко? Может, и не придёт, но верю: придёт время уважения к художнику, творцу. (...) Прости, дружочек, разболталась и отошла от темы. (...) Родная, постарайся отложить командировку до 24. За неделю до 24 я буду в Москве.
Твоя Вера.
7.9.78 г. Киев
Танька, Танюша, Танечка, кутинька мой сероглазенький, 3 дня нет писем. Хорошо, что ты позвонила, моя родная девочка.
Голос твой всё помню. Душа моя, по ночам, засыпая, вдруг вижу тебя совсем ясно, моя прекрасная, моя добрая девчонка.
(...) получаешь ли ты мои письма? Я день пропустила, а два дня отсылала не утром, как обычно, а вечером. Ну, что ж, придут сразу 2 или 3, как мне однажды пришли 5, а сегодня муж почтальонши утром смеялся надо мной, требуя плату за доставку московских писем.
Зайка, лапка, пушистый хвостик (!), ушки добрые, нос любимый, пишу всякую ерунду, прости, очень прошу (...).
Послезавтра день рождения Льва Николаевича, надо из ничего сделать конференцию.
Будет п ы с ь м е н н ы к. Не знаю, кто. Не Лев Толстой. Ой, видела по телевизору лучшего друга всех классиков Константина Симонова, он вещал из Ясной, старая лисица! И понимал, что это он -- НАСЛЕДНИК! Ох! Тяжко мне!
Зайка, кончаю. Прости этот бред (...) голубушка моя славная.
В.
P.S. 8.9. Письма получила сегодня утром. Кузнецова пока нет, но надеюсь! (Речь о сборнике поэта. =Т.Н.=) 3 лотерейных билета меня тронули. Ты настоящий хороший человек (т.е. поэт).
11.09.78.
Родная моя Танечка, родная моя девочка, получила сегодня Кузнецова и 3 письма. В отличие от него, а л е д Ю Макбет не люблю, может быть, там иной смысл, но мне он -- Ю.К. -- кажется недобрым, а я хочу т в о и х стихов. Да будет м у з ы к а! В тумане! Непотревоженном моём! (Реминисценция из моего юношеского стихотворения. =Т.Н.=). Не сердись, я помню всё по- настоящему.
Твоя Верка.
(Впоследствии Вера оценит и полюбит стихи Кузнецова о Макбет. =Т.Н.=).
13 сентября 1978 г. Киев
(...) старый трепач Сосинский сказал когда-то, что талант тебя вывезет (это только от взгляда на тебя). Мой чудный ребёнок, нашла в твоём сборнике с трубой (помнишь, ты мне подарила?) стихи, (...) отобранные Глушковой. (Речь идёт, вероятно, о самодельном сборничке ранних стихотворений. Т.Н.) И обрадовалась я ему! А почему ты нигде не печатаешь о строчке, просыхающей на столе? (...)
Вчера смотрела "Власть тьмы" и вдруг разревелась в конце.
И ведь правда граф мужиком бывал.
Целую тебя.
Вера.
(Подруга цитирует стихотворение, впоследствии вошедшее в один из моих ранних сборников. Финальная строфа:
...И я проснулась в юной мгле,
Себя опять не узнавая,
И долго строчка ключевая
Не просыхала на столе.
Т.Н.)
P.S. (на внешней стороне конверта Веры):
... И вполне могу жить без ЫНТИЛЛЕКТУ.
А вот вдали от тебя -- тяжко!
В.
19 сентября 1978 г. Киев
(...) Девятые классы хамоватые и необразованные. Читают действующих лиц "Грозы": Кабанова - ГЫ-ГЫ-ГЫ! Мне приходится выступать в не свойственной мне роли: говорить с детьми холодно и язвительно ( не по поводам ГЫ-ГЫ, а по другим поводам).
Мой 8-ой класс мне нравится. Они менее образованны, чем мои предыдущие, зато все едут на экскурсии, нет у них снобизма, они с благодарностью относятся к каждому, кто тратит на них какое-то своё время.
Да, мой бандит Шеверун написал сочинение о русском языке (...).
"О ЭТОМ ЯЗЫКЕ МОЖНО МНОГО СКАЗАТЬ И МНОГО МОЖНА СКАЗАТЬ, НЕ ТОЛЬКО СКАЗАТЬ А ГОВОРИТЬ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ. РУССКОМУ ЯЗЫКУ НЕТУ НЕ КОНЦА НЕ НОЧАЛА ОН ОЧЕНЬ ОБШИРНЫЙ И МОГУЧИЙ".
Вот так. Орфография, сама понимаешь, авторская.
На уроки он начал ходить. Не хочет ходить на химию: "Не пойду к этой гиббонке, она орёт всё время". Еле уговорила, пришёл в субботу к этой гиббонке на половину урока.
Пришла мать, больная, немолодая женщина: "Вы новенькая, мне перед Вами не так стыдно". Слегка её утешила. У этих родителей почему-то внимание к мелочам: "Стой ровно!". Я говорю ей: "Да пусть стоит как хочет, пусть сядет". Но Шеверун знал, что нужно "стоять", и сесть отказался.
Забавно покровительственно, но с уважением говорил с матерью.
Домой в субботу опять пришла в седьмом часу. Они собираются после уроков в классе, болтают, а я сиди.
Пока меня это отвлекает от тяжких мыслей. Да, их букет (была выставка в школе) -- рябина с дубом и портретом Островского -- "Рождённому бурей" -- получил 2-ое место. Они прыгали от восторга.
Маленькая, прости (...).
Вера.
14 октября 1978 г. Киев
(Открытка)
Родная моя,
увидела в книге о Твардовском фотографию: музей А.Т.Твардовского в 279-ой школе -- сверху сфотографирована вывеска -- номер школы. Я обрадовалась: такое, наверное, чувство у пятиклашек, когда они радостно вопят: "А я вчера Вас видел!"
Так вот: я вас видела! Книгу выслать? Привезти?
Солнышко моё родное, как ты себя чувствуешь? На меня тоже напала простуда. Кашляю. И мальчики кровавые в глазах. В.
18 октября 1978 г. Киев
Моя родная,
наверное, ты получила ещё письмо и открытки.
Я очень (...) тоскую о тебе.
Постараюсь быть 6,7,8. Если удастся прихватить 5 -- буду совсем счастлива.
Вероятнее всего -- прилечу. Жизнь у меня суматошная, сумбурная, ничего не успеваю толком, с 9-классниками ругаюсь, один класс на диво глухой.
-- А что я делаю? Я -- что -- разговариваю?
Вчера, сорвавшись, сказала им, что у них нет ни культуры, ни ума.
Про ум не стоило.
Твой белобрысый знакомый Шеверун на прошлой неделе пытался повеситься в подвале школы: неразделённая любовь к девочке из параллельного класса. Он сказал: "Давай дружить". Она отказалась. Он: "Я повешусь...". Она: "Вешайся".
Не знаю, насколько серьёзно он решил всё, но меня часа два колотило после "снятия со креста". Пообещал, что больше не будет. Дети отнеслись по-разному, большей частью равнодушно или насмешливо: пусть бы вешался. Одному (...) я сказала, что очень жалею, что он в моём классе.
Впрочем, для них он крикливый, драчливый Шеверун, с которым лучше не связываться.
Иные взрослые не лучше. Секретарь школы: "Пусть бы вешался у себя дома".
Пошла к Шеверуну домой. Он сначала злился, потом увидел, что беседа на разные темы, подобрел, начал показывать альбом с фотографиями. И всё волновался: "Ну, где та фотография, где мы выступаем?"
Уселись мы есть блины, он налил молока, съела я свои -- он протягивает свою порцию: "У нас едят и за того парня". "В.В., обидите!" -- когда я отказывалась от яблок.
Для меня он ученик, человек, с которым я обязана возиться, и он интересен мне.
Сейчас начинается "комсомольская неделя" -- это будет суматоха.
Дружочек мой, сегодня снилось мне, что мы сидим в Киеве на автобусной остановке.
До свиданья, моя родная.
Твоя Вера.
22 октября 1978 г. Киев
(...) Зайка, я пишу всё о неинтересном. Прости меня. Я всё ещё не в себе и устаю дико.
Вчера дети устроили "огонёк", -- вечер всяческого отдыха и развлечений. Детей я всё-таки люблю. Они так наивно-радостно готовились к этому вечеру, сочиняли конкурсы, рисовали головоломки, бегали за лимонадом.
(...) Они оказались такими телятами неизбалованными (что не исключает, впрочем, опасности вина и курева -- есть кадры), они прыгали, отгадывали загадки, с восторгом получали незамысловатые призы.
Утром была неприятность: Шеверун отобрал ключ от квартиры у одного 12-летнего идиота (идиота потому, что он дико избил своего ровесника). Этот парень ключ выпросил, но мама пришла в школу жаловаться -- это естественно.
Молодая географичка, девица не из умных, начала меня поучать, что я должна делать с Шеверуном. Я её спокойно остановила, нашла Ш., у него в руках был нож, небольшой, как перочинный. Попробовала отнять, но лезвие меня кольнуло в кисть. Ссадины обнаружила только после 6 урока -- вот нервы были напряжены -- жуть.
Дети его не любят, некоторые мальчишки говорили, что не придут, если он будет на вечере. Он не пришёл. Днём хвастался: "Возьму самопал, достанется участковому и этому дураку". Мне стало не по себе: в то, что он нападёт на участкового, я не верю, но слишком занимают его мысли об убийстве. (...)
Выживу ли я, воспитывая Шеверуна, не знаю.
Прочитала письмо (...) и позавидовала (...) тебе, детям 279-ой школы.
Куда деться? Где отдохнуть, отрешиться от этой проклятой усталости?
До свиданья, Заинька.
Твоя Вера.
25.10.78. Киев
Моя Танюша,
вернулась сейчас из славного дома: слушала Баха в обработке Малера и того же Баха без обработки.
Без -- звучал торжественней; хозяин дома сказал -- умиротворённей. Хозяин дома -- учитель физики с бородой -- не с рыжей, нет, но внутри он весь рыжий -- это свойство натуры.
У него около 1600 пластинок и уже за 100 опер. Дом нищий. Пластинки, книги -- хороший дом. Еды нет. Ужин -- булка с чаем и мёдом. Высокий розовощёкий сын и светлая жена, очень светлая и добрая женщина.
Вот это она и создаёт из меня графомана.
Таня, Танюша, Татьяна, жди меня, помни обо мне. Хоть на день увидеть тебя, выплакаться, отойти от этой тупой усталости.
Божество моё светлое, ангел мой красивый и нежный, девочка моя ненаглядная (...). Спасибо тебе за всё. Твоя всегда Вера.
25.10.78. Киев
(...) Сегодня писала воспоминания об Ариадне и Сосинском. (...) Пишу, конечно, письма. (...) Полина заставила, вернее -- упросила меня взять ученика. Он интересный мальчик -- сероглазый; на первый взгляд, лицо спокойное, потом видишь, как оно нервно изменчиво. Памяти почти нет, способности значительно выше средних (это по математике). Радуется наивно, когда вдруг поймёт какой-нибудь пустяк. Ну, например, что белизна -- это имя существительное. Или вдруг просиял, когда понял, что подпись -- это не глагол. Нет, он совсем не глуп, но почти ничего не знает.
Мама с бабушкой (бабушка -- прелестная полька, забываю её всё поздравить с римским папой -- первым не итальянцем, первым поляком), мама с бабушкой рассказали совершенно жуткую историю об отце с бицепсами, который парня бьёт смертным боем. На днях он начал бить его, бабушка говорит: "Вмешаться было невозможно, и у нас были как похороны". Страшно как. Мальчик неуправляем, он явно не вполне здоров, а лечат его вот таким диким способом.
Мама хочет, чтобы его чему-нибудь научили. Я утешала их обеих как могла, а потом бабушка на улице сказала мне: "Несчастлива моя Ганка, нет у неё друга." И ещё сказала польскую пословицу: "Надея -- матка глупих". По- польски так и выговаривается -- глупих.
Вот так. Поэтичные поляки оказались рационалистами.
(...) В.
30.10.78. Киев
(...) Милая, нам нужен дом под цветущими вишнями, камин зимой, веранда летом и три берёзы в саду. Вот и всё.
Если будут берёзы, можно даже без вишен. (...) Кутёночек мой, жизнь моя не вполне не удалась, просто очень мне печально сейчас: как будто что-то гложет моё сердце, что-то бесконечно его гложет.
Пиши мне, дружочек. Ради Бога, не грусти оттого, что реже пишу. Я и сама не пойму, что со мной происходит сейчас. Я отупела. Много уроков, ничего не успеваю. Школа маленькая, всё время какие-то субботники-воскресники (...) Но начальство -- стучу по дереву, плюю три раза -- пусть (если оно отпустит меня на праздники) будет не хуже, чем есть. В лучшее я уже не верю.
Да, дочушка моя, насчёт Нового года сказать ничего пока не могу. Может быть, ты ко мне приедешь. (...) Боже, опять я какая-то бездомная; наверное, есть бездомные, безмужние, бездетные души -- и у меня такая вот душа.
Дочуша, не сердись. Тебе и так тяжело, а я ещё докучаю, занудливо ною.
Темнеет. Как в детстве у меня сжималось сердце, когда в воскресные вечера начинало синеть за окном -- т.е. окно. Вечер, завтра в школу. Господи, ведь счастьем была эта школа, каким тихим счастьем. Сад посадили, вечера устраивали без учителя (учитель литературы был директор школы), в 9 классе все были влюблены в Славку Григоренко. И когда в "Вечёрке" года два тому назад увидела в траурной рамке известие о смерти кандид. технаук Григоренко Владислава Григорьевича, не поверила, подумала, что это другой. Нет, оказалось, что это наш Слава. А я вот живу. Надо жить.
Прости. Принесла к себе телефон. Вдруг ты позвонишь. Или: вдруг ты сейчас на проспекте Мира, я позвоню и услышу твой голос. Господи, из-за чего мы плакали, грустили! Г о с п о д и !
Прости, Зайка, будь здоров, маленький.
Твоя Верка.
10 ноября 1978. Киев
(...) Итак, лекция на тему: "ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА НИКОЛОГОРСКОЙ".
К истокам творчества Т. Никологорской мы должны отнести:
а) слюдяное окно;
б) поле, вместо моря;
в) музыку не как дурман, обман и отрицанье мысли, а ту музыку, про которую не рассказать;
г) МОСКВУ!!!
_____
Итак, вот что питало раннюю Никологорскую. Раннее творчество Т. Никологорской погружено во что???
Не во мрак, не в хаос бытия, а в свет заснеженных московских улиц, в музыку раздумчивую и добрую.
Как отметил с неудовольствием один поэт (почти лауреат), -- "Да, музыка есть!" Этот почти лауреат не считает заслугой Т.Никологорской музыку её светло-серебряного ноября (?), её леса, телеантенн и Татьяниных дней.
Прошлое Никологорской, её связь с русским православием и народностью даёт ей вот это всё её соседство свистящих с сонорными, которое не оглушает, а делает речь светло звенящей. (...)
Звонарь есть, а где индустриализация?
Окно из слюды есть, а где оргстекло? Где большие светлые окна наших школ, вузов и предприятий???????
Вот когда они появятся в Ваших стихах, мы будем Вас печатать в журнале "Октябрь, ноябрь, декабрь" и "Новый мир".
_____
Итак, со слюдяным окном, сквозь которое маячит сомнительный и религиозный дед, мы разобрались.
Поговорим о поле.
Что мы можем о нём сказать?
Это колхозное поле? -- Нет. Это просто какое-то поле, которое поэт любит больше моря.
Это уже вкусовщина, товарищи. А вот Вс. Вишневский любил море и подлодки! Ну, ладно. Не будем останавливаться на поле, тем более, что у поэта оно вздувается иногда морем.
Надо сказать, что отношение Никологорской к полю трогает, так и вспоминаешь берёзы, рябины, девушек в сарафанах, хороводы. Поле -- это Россия, это.....(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ).
Целую тебя, мой чудный, талантливый ребёнок.
Твоя Верка.
Киев. 11.11.78 г.
Танюша, сижу на педсовете, и почему-то глаза начали слипаться. Тема -- профориентация -- вот, пожалуйста, и наш разговор у Гнесиных. Танька, давай улетим! (...) по плану мы должны смотреть спектакль "Весенняя мадонна" в ТЮЗе. ТЮЗ у нас театр грязный в прямом смысле, с горящей вывеской внутри зала над одним из входов "Комната для курения". Когда-то я только один единственный спектакль посмотрела с удовольствием, забыла название, может быть, потом вспомню: пьеса польская, написал Низюрский; солнышко моё, у него есть прелестная повесть "Приключения Марека Пегуса", наверное, твои 2 -- 3-кпашки смогут оценить польский юмор. А над пьесой этой -- Господи, как это я забыла название, я хохотала до сведения скул. А потом всё было бледно-серо-скучно.
В 10 классах сейчас Блок.
Отдельным трудящимся откровенно скучно. Сделать ничего не могу. Тихо смотрю, но что там в нутр(е), ей-Богу, трудно сказать. Попробую их послушать. Сегодня на урок влез тот самый убивец Лужецкий, которого я толкнула 1-го сентября. В шапке меховой (ещё листья на берёзах, и тепло ещё). "Здравствуйте, я в этом классе 9 лет проучился". "Ну, садитесь". -- "А можно?" -- "Можно".
Был диафильм "Страницы лирики Блока" и вообще Блок. После "Плясок смерти" он не вынес, поднялся, пошёл. Во время "Незнакомки" он спросил: "Так что, значит, пить можно?" Я ударила по нему Хайямом -- "Запрет вина...". Он был слегка польщён. "А Вы обо мне что-нибудь знаете?" - "Да, я два месяца занималась сбором сведений о Вас". -- "А вот напрасно, обо мне можно книгу написать".
Шеверун мой сейчас бесится. По школе бегает, на уроки не ходит: сегодня ему сказала, что с ним что-то происходит, пора бы прийти в себя. Он обещал с понедельника взяться за ум (...).
Лапушка моя, сегодня в Киев приехали оба Гейченко (т.е. Симеон и Татьяна, псковская девушка). Они оба были в Москве, надеюсь, меня там не видели. А представляешь, что было бы, если б Малева на пути из "Полтавы" столкнулась с ними во Внукове!
Родная моя, когда проходит несколько дней -- ведь сейчас прошло 10, 11 -- двое суток -- кажется: год.
Потом будет казаться, что мы и не расставались.
Танюша, я пишу каждый день.
Родная, родная, родная, всего тебе доброго. Постараюсь быть порядочней, чем в I четверти.
Вперёд, на освоение "Целины".
Твоя Вера.
13.11.78. Киев
(...) Сероглазенькая моя, приехали Гейченко -- Тата и Симеон, похудевший, посвежевший, подобревший. В первый вечер Юра (Ю.Г.Милейко =Т.Н.=) повёз всю компанию (...) на премьеру фильма "И.С. Козловский". Снимал наш "Научфильм". Вначале главный редактор сказал, что москвичи говорят о киевской школе научных фильмов (судя по этому фильму -- напрасно говорят). Потом выступил режиссёр, показавшийся не вполне умным. (...)
Потом начался фильм. Очень много (и плохо по-русски) говорил Олесь Гончар, выступал Солоухин (увидев его на экране, Татка Гейченкова зашипела (...); потом Ахмадулина немного говорила, но почему она?
Не высказался ни один музыкантишка! Хоть какой-нибудь!
Конечно, они показали сцену из "Бориса" -- спасибо им, я почувствовала себя русской бабой. И какой умница (кроме всего прочего) Александр Сергеевич -- так сделать народ. "Вели-ка их зарезать..." Потом был хор мальчиков -- и это было хорошо, да и вообще, местами хорош был Иван Семёнович.
После показали испанский фильм "Долгое возвращение". Надеюсь, ты эту муть смотреть не пойдёшь, Гейченко сказал, что смотрел такие фильмы, когда ему было 10 лет, а я смотрела, когда мне было 17. (...) зачем мы покупали такие в самом худшем смысле безыдейные фильмы, непонятно. Нет, ещё и сладко сентиментальные. (...)
Вчера, в воскресенье, Юра организовал митрополичью службу во Владимирском (был опять профессиональный хор и местами бабки); интересные роспевы "Святый Боже" -- несколько вариантов, последний: соло -- прекрасное мягкое глубокое меццо на фоне хора -- что-то удивительное.
Потом пошли в Русский музей. Татку я расколола на высказывания о художестве (...).
Потом Юра повёл нас к дому Булгакова. Когда уже прошли Флоровский спуск, Гейченко, увидев мальчишку, ломающего ветку для рогатки, начал озоровать: "Мальчик, а мальчик! Что ты больше любишь: груши или котлеты?" и т.д. Татка: "Мальчик, сделай рогатку и выстрели в этого дядю!" -- "Сейчас", -- сказал живо мальчик (до этого он всё молчал и улыбался). Мы втроём остановились, мальчишка сказал: "А сейчас я выстрелю стеклом", -- но у мальчика какое-то сердце есть: он выстрелил в булыжник мостовой.
Спуск этот на Подол совершенно дикий. С Андреевской сняли леса, она посветлела, но купол ей сделали давяще зелёный с золотом -- смотреть тяжело.
К Милейко все ввалились голодные.
Симеон удивительно рассказывал о своей поездке на Украину в 1918 году и о том, как отец спас его от Махно (60-летний отец шёл несколько десятков километров за махновцами, чтоб спасти Симеона из плена).
Очень мне понравилось отношение Симеона к Чапаеву в фильме.
И вообще: нужны иконы, нужно молиться -- Пушкину, Толстому, нельзя плевать на всё, как это сейчас принято. (...) До свиданья, мой дружочек. Сейчас 7 утра. Спишь ещё, наверное, моя ласточка, мой друг ненаглядный.
Целую тебя. В.
18.11.78. Киев
(...) Симеон сегодня последний день в Киеве. Они с Татой живут не в "Киеве", а в гостинице, напоминающей большую общую квартиру (одна кухня и общий туалет), Татка ропщет, хочет в "Киев", Юра её ублажает, подарил ей Ремизова, и слегка расстраивается, когда Т а т и а н а начинает вздыхать о люксе. (...)
Симеон, как всегда на отдыхе (второй раз его вижу), праздничнее, спокойнее, добрее. На днях он напал на нас с Таткой из-за Ахматовой. Татка бросилась в бой за Анну Андреевну. Симеон ругался, потом сказал: "Да на тысячу голов она выше всех этих баб... (...) А заводил я вас, чтоб вы о духовном думали, а не о предстоящем обеде".
И читал потом у Юры Сологуба, Клюева, Северянина, а потом сказал: "Какое-то это начало века без Блока однобокое". И начал читать Блока. Его выбор: "Летун", "В ресторане", "Под насыпью, во рву некошеном", что-то ещё - забыла.
Насчёт "Летуна" тятенька высказался с горечью: "Как он много видел уже тогда".
В Симеоне намешаны социализм, христианство, ностальгия (твоё определение) по прошлому. Мне вдруг начинает казаться, что в нем живёт детская мечта-тоска по справедливому устройству жизни -- и главное -- счастливому. Ему хочется иногда некоторого благообразия в действиях властей (...).
Ездил он в Переяславль и Канев, смотрел литературные музеи в Киеве. В Киеве его потрясло то, что есть кабинет-музей Олеся Гончара (при жизни!) "И стоит в этих ваших музеях ерунда -- банка кофе стоит, как будто это так важно, какой кофе пил писатель!"
В Каневе музей не понравился, в Переяславле музей под открытым небом понравился, но когда Татка начала его хвалить, он быстро выложил, какие там недостатки, чем напомнил мне себя. Лезу со спорами и возражениями, иногда против своей воли. (...) Зайка сероглазый, ДЕНЮЖКУ вышлю сегодня-завтра. Прости, что с опозданием, не сердись на меня за то, что пишу об этом. Очень я люблю тебя, мой Заяц дорогой, родная ты моя.
Целую. Твоя Вера.
P.S. А относительно, "сколько бы ни", ты права: "н и"; и всё это я знаю и понимаю, как объяснить это тебе, голубка? Родная ты моя.
20.11.78. Киев
Дорогая моя Танюша,
эта неделя была какая-то совершенно дикая: 11 -- педсовет, 13 -- политзанятия, 14 -- фильм по разнарядке райкома, 16 -- методобъединение и театр по разнарядке городской (очередь нашей школы идти в ТЮЗ), 17 -- профсобрание, 18 -- встреча с курсантами-ракетчиками, и генеральная уборка, и факультатив. На собрании я вдруг начала тихо плакать. Чёртовы нервы! Плакала я оттого, что внушаема, что не могу настоять на своём, что не надо было мне идти. Надо что-нибудь начать принимать общеукрепляющее и холодной водой обтираться, что ли?
Симеона проводили. На прощанье он прочитал Пушкина, и мы с Женей взрослой (сестрой Ю.Г. Милейко. =Т.Н.=) чуть не заплакали -- так это было похоже на прощанье. Дай Бог ему долгую жизнь, но только вот страшно за него. (...)
Минул праздник и скрылся; суббота была с этим проклятым мытьём и сгребанием листьев; мой сосед Толя очень любит руководить нашей трудовой деятельностью. (Толя -- директор). Удрать мне из школы хочется по той причине, что дети уж очень не развиты. Одни мальчики-десятиклассники что-то читают, а так -- запустение и дикость. Появилась ещё одна баба -- моя ненавистница, неприязнь из неё прёт электромагнитными волнами. Раньше она передавала, чем недоволен во мне её 9-ый класс. Теперь она нудит с моим классом: чем она недовольна в нём. Доходит до того, что она обвинила их в неприличных выкриках по отношению в Л.И. во время демонстрации фильма "Свет Октября".
Мало ей показалось, что она мне сказала, так ещё и донесла школьным властям.
Мне тяжело и скучно думать, что уйдут 10-е и не с кем будет мне говорить в школе.
Надо искать большую школу в более приличном районе.
И изнашиваюсь я от бесконечного руководства мытьём полов и собиранием листьев.
Зайка мой, прости, что плачусь. В субботу диспут: "Как стать с веком наравне?", в следующую субботу -- Хемингуэй -- просят 10-классники, потом литературный вечер. А ещё столько всякой всячины в виде собраний, политзанятий (...).
Танюша, моя Таня, касатка моя, ласточка моя сероглазая, нарисуй ещё раз свой глаз и бровь, а лучше всего автопортрет.
А я напишу цикл статей "Сочинения Т. Никологорской" и приложу твой портрет для будущих исследователей.
Зайка, сероглазый, умненький, хороший, светлый мой кутёнок, нет сегодня письма.
Завтра будет. Завтра, завтра.
Пришли стихи про моржа в седле и слона в ванне.
ФУЛЮГАНКА!
Что с русской поэзией делает!!!
Разбойница! Душенька моя! До свиданья. (...) Твоя В.М.
Ноябрь 1978. Киев
(На обороте квитанции почтового перевода)
Танюша, моя родная, прости за опоздание. Сегодня прочитала твоё письмо о Колесове, Шукшине, Чехове. Дай Бог ему (Колесову П.Ф. =Т.Н.=) здоровья и его жене тож. Целую тебя, моя родная, кланяюсь Александре Федоровне (квартирной соседке. =Т.Н.=) Твоя Вера.
21.11.78. Киев
Хороший мой сероглазый малыш, отвечаю по порядку:
никакой тяги к творчеству во мне нет. Разве будешь ты редактором или завотделом газеты, журнала -- и нужны будут тебе искренние излияния на педагогические темы -- я уж для тебя напишу! Будете мною премного благодарны! Заяц, я не знаю, что значит быть напечатанной! Я пишу только письма, душенька моя!
Меня изматывает работа. Сегодня проснулась сравнительно поздно -- без двадцати 8. Схватилась за планы: надо было посмотреть "Мильон терзаний" -- успела -- и написать планы по языку -- тоже успела. В школу пришла вовремя. Первый урок (3-ий по счету) был на нервах, на втором успокоилась. На литературе Шеверун несколько раз просился выйти, я выпускала (не выпустишь -- сам выйдет), перед 6 уроком от него несло вином. Он стоял в коридоре возле Викторова -- это чудо из другого класса -- и говорил: "В. мой друг, я пью -- и он пьёт". Викторов, показывая мне свой изяЧный профиль: "Я выброшусь с третьего этажа. Или хотя бы разобьюсь в машине". Шеверун ушёл с ним, после 6-ого пришли мальчишки мыть класс. Вымыли. Поехала я на Русановку к Славе. Мне там все обрадовались, особенно бабушка-полька. Мы поговорили о Польше, о Кракове; Слава на занятиях был рассеян, папа опять его бил, бабушка назвала отца фашистом, мать заступилась, но парень ходит избитый. В нём задатки интеллигента, и он легкомыслен, забывчив, несобран (это может соединяться с умом и хорошими манерами);
Бабушка мне со слезами сказала: "Хорошо. Убьёт отец сына. Это один раз -- и всё. А если он его сделает идиотом? Я это Ганке сказала". (...)
Приехала домой, посмотрела передачу "Круг чтения". Сначала высказывался профессор Сикорский. Если это интересно твоим детям и тебе: вышел Озеров -- "Мастерство и волшебство" и Левидов "Автор, образ, читатель".
Потом дама из Ленинки рассказывала о новых книгах, потом критик Дмитриев доложил о журналах (в "Дружбе народов" N 9 "Путешествие дилетантов"), и кто-то взял интервью у Джанибекова, что он любит, что он читает.
Джанибеков с перепугу сказал правду: любит и читает Джека Лондона. Потом дал кое-какие советы молодёжи -- как читать (напрасно он это), потом рассказал, как он "Войну и мир" недавно перечитал и какая у него дома библиотека. Я этому космонавту сочувствовала: морда симпатичная, читал кой-чего, зачем интервьями человека мучить? Тоже -- Конфуция нашли, Заратустру нисчастную!!!
Прослушав "Круг чтения", отправилась учить уроки, но поняла, что не смогу. Совершенно серьёзно -- не смогу. Завтра тот самый день, когда я -- ломовая лошадь: 6 уроков -- Блок, Некрасов, Грибоедов --
Господи, упокой душу рабы твоея.
Скучно!
Зачем живём? Куда плывём?
Зачем плывём?
И что нам советует вырастить Никологорская? Она нам советует вырастить ду-шу, забывая, что душа -- понятие идеалистическое, в этом она смыкается, я бы сказала, вплотную подходит к Большой Медведице русской литературы -- Льву Николаевичу Толстому, который, как известно, не мог молчать -- и всё о душе пёкся.
Не могу готовиться -- и пишу тебе. В голову лезет: "Ой, вьюга" и "Ты лети, буржуй, воробу(ы)шком". (...)
Ах, девочка моя, куда бы нам с тобой забраться -- в тёплую избу, в чай с хрустящими хлебцами или мягкими баранками, в безлюдье.
Родная, родная. Моя (...) сероглазая зоренька.
Твоя Вера.
Киев. 22.11.78 г.
(...) Вчера одна девочка поднесла мне свои стихи на предмет отзыва. Стихи очень плохие. Такие плохие, что уж и сказать почти нечего. Это даже не рифмованная проза. Бедность всего: мысли, языка, чувств. И не бедность даже, а убожество.
Сегодня она подошла "Ну, как?" Я ответила, что не могу одним словом ответить. Говорить буду с ней осторожно, потому что и после моего ответа она просидела пол-урока мрачно-задумчивой. Запретить или отсоветовать ей писать просто не могу. Попытаюсь разобраться в том, что ею движет, что заставляет писать. Ведь 17 лет, хорошие стихи она слышала, не может ведь она быть глухой совершенно, ведь неглупа она. Ладно, как-нибудь справимся, попробуем воспитать уважение к поэзии.
Вчера читала рецензии Блока на п и е с ы (Господи, о чём только не писали после революции! о до уж не говорю).
Одну пьесу он разбирает прелестно: одну сцену (из древнеегипетской жизни), а потом пишет, что считает излишним рецензировать её -- всё ясно. Мудр его взгляд на то, почему нельзя уничтожать.....
ЗАЯЦ, БЕГУ В ШКОЛУ, О БЛОКЕ НАПИШУ.
22. вечер. 23. утро
(...) А мне сейчас нужен деревенский дом, пусть будет колодец с холодной водой, снег пусть заносит дорожки, но пусть будет весёлая печка, окна с узорами и белыми занавесками. В этом доме будешь жить ты, когда устанешь, когда захочешь положить мне голову на плечо.
Сейчас друг всех писателей Симонов рассказывает о Булгакове. Преуспевающие усики рассказывают о голодном Булгакове: "Письмо Булгакова правительству продиктовано не заботой о личном благополучии... Оно о необходимости работать для Отчизны".
Я читала это письмо лет 15 тому назад. Меня поразило оно болью голодного человека. Нет работы. Как жить?
Ой, какой Симонов противный! "Театральный роман" сразу написан набело", -- говорит Симонов. При этом глаза у него почему-то становятся постноханжескими, усы ползут вверх, и руки изображают изящество.
Как тяжело видеть преуспевающих литераторов! Нет, пусть живут счастливо и богато, но когда из человека прёт такое самодовольство, такая уверенность в ценности своей оценки литературы:
я и Булгаков,
я и русская литература.
Читаю сейчас подробно "Алмазный мой венец" -- то же сознание своей значимости: я и русская литература.
Прости. Излила желчь.
_____
Утро. Взглянула в Катаева. Нельзя его смотреть первым. Это не выстраданная литература. Это старик, которому уже безразличны чьи-то смерти, не умея скрыть кокетства, интересно пишет о прошлом. Есть в этом правдоподобие, он, может быть, и не приврал ничего, но все, о ком он пишет, заслуживают правды настоящей.
Маленькая моя, прости брюзжащую Малеву, она ещё не проснулась, у неё урок в 9-ом классе.
Зайка, Зайка, (...) как ты там, моя родная девочка?
Твоя Вера.
25.11.78.г. Киев
(...) я взяла "Морской мятеж" Пастернака, один класс откровенно не слушал. Потом мы пошли на диспут в 167 школу. В 167 я проработала 12 лет. Ведущий был поэт с большими чёрными (!) глазами, худощавый, лицо открытое. Улыбка славная. Мальчишки из моей нынешней -- 119 -- разговорились. Масла в огонь подлил МихДан. МихДан -- это Михаил Данилович, учитель русского языка из 167. У него нет ноги: 16 лет он пошёл в партизаны, а в 17 у него отняли ногу. Человек он тяжёлый, нехорошо тяжёлый.
Когда бедный поэт запутался в вопросах диспута и начал отвечать на всё самостоятельно, МихДан (...) начал нести ахинею, полезную во время всякого спора. Дети на него ополчились, начали задавать вопросы, один юноша высказал здравую мысль: "Нельзя жить думая: принесу пользу людям. Это на смертном одре можно подвести итог: принёс или нет. А если будешь жизнь свою подчинять этой мысли: приношу -- не приношу, -- выйдет что-то рассудочное и неискреннее".
(...) А я смотрела на поэта. Он мне показался человеком искренним, необеспеченным; пишет стихи по-украински, прочитал одно стихотворение о людях, сбрасывающих снег-лёд с крыш, стихи не ахти, уж очень прозой отдают, так в детстве пишут датские стихи.
Но детям он понравился. И мне тоже. Они без церемоний (...) пригласили его в 119, чтоб выпить чаю и поговорить "за жизнь" в узком кругу.
_____
Когда писала о "Морском мятеже", вспоминала твой голос. Услышать бы. И ты позвонила. (...) А вот слёзы твои в "Клубе" -- душенька ты моя, как во мне много раба, несмотря на мою -- принципиальность? Честность? Этот раб от самозащиты, от боли: ох, не бейте, не надо, дайте побыть в себе, не лезьте! (...)
Не казни себя, Заяц. Таких искренних людей, как ты, единицы. Ты одна, пожалуй. Все мы подчиняемся каким-то условностям, дипломатничаем (МихДана после диспута я зашла поблагодарить, хоть он мне неприятен -- не совсем, но что-то отталкивает меня; я всегда помню о его ноге и партизанском прошлом), ты прекрасный и искренний человек, не казни себя.
(...) молюсь за тебя, мой ангел, мне хочется для тебя уверенности в себе -- в тебе никогда не будет тупой уверенности преуспевающего невежды, но пусть не будет и тяжести сомнений.
Дружочек мой славный, хочется с тобой слушать музыку Петра Ильича. Уймись ты, буря.
Зайка, зайка, зайка, пушистый, тёплый Заяц, не холодно тебе?
Моя родная, будь здорова (...).
Твоя В.
Киев. 28.11.78 г.
Моя голубка,
сегодня письмо о твоих слезах в "Клубе". Родная моя, всю жизнь будем мы не уверены в себе, и плакать будем, и ранить нас будет всякое ч у р б а н с т в о.
Очень боюсь, ничего не загадываю, хочу думать, что "образуется" там что-то в "Клубе", а если нет, дочуша моя сероглазая, боюсь для тебя ещё волнений и мучений. Пока благо: нет для тебя собраний во Дворце. А дети есть. Совсем твои дети. Здорово они у тебя Глеба Горбовского разобрали. А Ксюшу Некрасову ты им давала? Али нет?
Родная моя, завидую этим детям, которые могут видеть тебя два-три раза в неделю, выпускать с тобой газету, бежать с тобой в Консерваторию.
Малыш мой прекрасный, одно меня тревожит: трудности твои, Господи, знать, что ты не досыта ешь, а то и голодаешь -- вот что самое тяжёлое (...).
Сегодня партсобрание, а вчера -- политзанятия, сидишь без толку -- ни уму, ни сердцу всё это; на завуча, оказывается, произвело сильнейшее впечатление то, что дети на уроке высказываются свободно; я ей благодарна за это, но "минуй нас пуще всех печалей..."
Завтра работа, опять работа -- Пушкин -- биография, Есенин -- первый урок, политинформация в 8.00; десятиклассники ни черта не знают, Блока не угрызли, нельзя на это сердиться, но не радоваться же этому.
Господи, помилуй мя грешную. (...)
Твоя В.
3.12.78. Киев
Моя голубушка,
очень смешные эти дни -- юбилейные. Слава Богу, в школе я новенькая, и никто ничего не знает, поэтому тихо. Шум, гости, заливная рыба -- всё это будет сегодня.
29-го приходили дети из любимого класса -- 1973 год. Они у меня уже почти взрослые люди, у Оли -- Робеспьера (впрочем, она человечна при неподкупности и справедливости, и фамилия её теперь -- Полетаева) дочка 4-месячная, а я и не знала; почти все уже отучились и работают, и всем почти от жизни достаётся, вернее, от дурных начальников и тупых общественных деятелей. Какой-то ужас.
Особенно Любке Драгун. У неё на работе целуют в щёку при встрече и строчат письменные сообщения: во время круиза иностранец зашёл в каюту. Она с этой работы смывается и правильно делает.
30-го была Лина (Ошерова. =Т.Н.=) Она пришла с цветами и Бахтиным, в большом мягко-оранжевом свитере, говорила своим голосом (...) мы с Линой любим русский язык, наверное, одинаково сильно, пламенно и страстно, Лина сказала: "Я уважаю все причины, по которым люди уезжают, я думаю, что достойна уважения причина, по которой я не могу уехать: я не могу жить без русского языка" (...).
1-го была Зоя, которую ты однажды видела в школе, но не знаешь (...), а сегодня будут все -- хочу ли я этого? -- Нет, я хочу тишины. Утром (сейчас 6) проснулась и подумала, что уже давно не запоминаю никаких стихов, надо бы запомнить "Осень". Начала запоминать -- память ослабела (...).
Сегодня надо резать волосы. Кепка, вернее -- шляпка твоя мне идёт, мой сероглазенький, глупенький дурачок (...) Прости, пишу быстро, боюсь, что выходит сбивчиво и коряво (...) душа моя, есть вечно живущее во мне состояние:
я встретила единственного друга, Нечаянную Радость, утоление страдания.
Ты уже часть меня, нет, наверное, я часть тебя,
родная моя, я молюсь за тебя всегда -- и в эти дни.
История с Дворцом (пионеров. =Т.Н.=) -- самое ужасное, что привычна и обычна. ВЕЗДЕ сидят эдакие проверяющие наши мозги. Поэтому ценю я нынешнее своё начальство -- позволяющее мне думать и делать, что хочу, доверяющее мне возню с душами.
Тьфу, не сглазить бы.
Зайка, дай Бог литклубу выйти из испытаний (...). Прости, дружок. Бегу закрашивать седину. (...)
Вера.
9-10 декабря 1978 года
(...) вчера мне сказали совершенно дикую вещь, в которую я не верю, боюсь выговорить, так это дико: мне сказали, что Кирилл Кондрашин остался в Голландии. Утешь меня, скажи, что это неправда.
Почему весть горька: Кондрашин -- это воспоминание о I Конкурсе Чайковского, т.е. о моих 20 (неполных!) годах, о его каком-то отеческом, добром взгляде на юного Клиберна, об оттепели конца 50-х годов, значения которой мы, дураки, тогда не понимали. Ах, какие книги появились на раскладках, ах, кого нам, вчерашним детям, тогда вдруг поднесли: Достоевского, Есенина, Ильфа-Петрова, и т.д. Импрессионистов, постимпрессионистов, Врубеля (ведь Кирилловская церковь с Врубелем была закрыта, слава Богу, что её не взорвали, как Михайловский златоверхий монастырь, кому-то кисло стало, что рядом с Софией он стоит).
Ах, что за время было! На политзанятиях мы поносили Никиту Сергеевича за его высказывания о литературе -- вот дураки-то были! Пусть бы себе высказывался!
Нет, за Пастернака больно. Но здесь руку приложил нынешний мэтр Симонов Кирюша-Костя и ещё несколько сытых (...) никогда не будет им выглядеть Пастернак, а вот Вознесенский -- будет, -- это я беру ещё не подонка всё-таки -- Татка Гейченко после моего неприязненного отзыва о Вознесенском сказала: "Поцелуйтесь с моим папой".
Так вот, за Пастернака больно.
И противно видеть Симонова, которому всегда хорошо: и в оттепель, и в мороз.
И противно думать, что эти люди определяют наше лицо для многих; Твардовский с его болью, -- а кто на открытии музея (...) на экранах телевизоров -- К. Симонов, Льву Толстому -- 150, а кто из Ясной Поляны рассказывает о Льве Николаевиче -- опять Кирюша! И о Булгакове он -- чёрт побери! Кстати, Грекова не смотрит телевизора (директор МГДП и Ш той поры. =Т.Н.=) -- разрешён Булгаков, разрешён! (...)
Господи, начала с Кондрашина, а чем кончила: да простит меня Господь!
Отъезд А. Кузнецова на меня никак не повлиял (...) я тогда говорила: "Вот если б уехал Паустовский, для меня это было бы болью", так утешь меня, что моя молодость ещё со мной (...).
(...) девочка, ты чудо, которое встретилось мне в награду на что: за любовь к Александру Сергеевичу, к России, к великому русскому языку и народу?
Моя прекрасная, почти все дети писали о том, что друг должен быть единственным, -- и почти все мечтали о единственным друге, сказать им, что моя мечта сбылась около сорока?
Доброго утра тебе, моя подруженька, услышь меня, улыбнись, моя дорогая. (...) Будь здоров, мой Малыш, потеплее одевайся.
Твоя Вера.
10.12.78.
Моя родная, моя голубка,
слушаю твоего Кпиберна, и музыка меня трогает, и Новый год на Молдагуловой -- какой светлый, памятный Новый год с апельсинами, кагором, заснеженной Москвой, сероглазая моя голубушка. Как мне хочется для тебя счастья, родная моя, и как много для меня в этом счастье.
P.S. А просветитель -- прекрасное слово. Саша -- что -- стесняется его произносить?
Напрасно. Ещё долго надо повторять "Сеятелей".
Киев. 11.12.78 г.
Родная моя девочка,
Бог знает что творится -- ни на что не хватает времени. (...) Сегодня опять учила Славу. Мне с ним тяжело. Он явно не вполне здоров (...) то светлое -- и странно -- даже творческое, что в нём было, забито отцом. Бабушка его очаровательная полька Ванда Викентьевна -- рассказала мне грустную историю времён незабвенного Иосифа Виссарионовича. Муж её был участником покушения на Пилсудского, человеком, преданным идее. Он бежал к нам, добежал до Киева, был завлитом театра им. Франко. Долго он оставался польским подданным , а через два дня после того, как он принял советское гражданство, ночью за ним пришли в 37 году. Её с дочкой выгнали из квартиры, и она устроилась в Боярке; пришло извещение, что муж умер от воспаления лёгких. После войны она рисовала на клеёнках цветы и продавала на базаре. И выучила Га (это телефон зазвонил, и Никологорская разъяснила, что работа в "Клубе" -- это не "Спящая красавица", а военный оркестр) -- и выучила эта маленькая женщина Ганку в художественном институте, -- "А сейчас мы с Ганкой друзья, и мне ещё хочется верить -- хоть поляки, помните? --говорят: надея - матка глупих, -- мне хочется верить, что Ганке её сын принесёт радость".
Потом пошла домой. Ты слушала "Спящую", а я смотрела фигуристов. Уходил из фигурного катания Юрий Овчинников. Он катался в последний раз, а я плакала. Он один из тех, в ком моё представление о красоте, изяществе. Ему было тяжко -- в последний раз, в ожидании всяких этих речей,
Господи, голубчик мой, как чисто звучал твой голос, какое ты моё чудо.
Хоть рублей 80 они тебе заплатят -- эти гады?
Помни, пиши, звони (...), мой родной поэт.
ПРОЕКТ НОВОГО АПОФЕОЗА "СПЯЩЕЙ".
Юргенсон -- танцует Григорович, Пётр Ильич -- танцует Васильев -- издают балет "Щелкунчик", в роли благодарного потомка -- Никологорская, при виде китайского танца (в дивертисменте) она слегка шарахается, и под звуки Шостаковича на неё начинают лезть чудища из долины Жёлтой реки. Но всё исчезает, и опять кот-кошка, Драже и т.д., Юргенсон подносит П.И. лавровый венок, Катаев врывается на сцену в своём а л м а з н о м, и его приканчивает Щелкунчик за фамильярное обращение с Мандельштамом и другими русскими поэтами,
Пётр Ильич обещает написать музыку к трагическому балету о ботаничке и симфонию о сероглазых лесах,
(...) в восторге падает на лысину Светланову, фея Сирени улетает на качелях, Карабос проваливается,
Никологорская, Юргенсон и Чайковский пьют чай.
А Малева плачет, рыдает: у неё впереди вечер Некрасова, урок о Маяковском, поэма В. И.Ленин, куча сочинений, факультатив --
о Боже, как надоела эта школа, как мне хочется НА ВАШ НАПЛЮНУМ. читать литературу и смыться в... КУДА НЕ ЗНАЮ, К ТЕБЕ, НА БЭРЭГ МОРСЬКОЙ!
ЦАлую. В.
(Вера воспроизводит слово "ПЛЕНУМ" в произнесении одного тюрка. =Т.Н.=)
Киев. 12.12.78 г.
Моя родная,
моя дочуша сероглазая,
пришла твоя посылка, мой чудный дурачок. Ветер сейчас воет, зима, папа только что заколотил на балконе шпингалеты (у нас вечно что-нибудь не закрывается, а мне не хочется думать, что завтра школа и суета, какая суета!
О суете не хочется думать из-за "Белой гвардии" (в пятницу дала мне её Линка). Его город -- Киев, его люди, булгаковские люди в зимнем городе, он любит этот город так, как никогда я его любить не буду, и мысли мои о том, что в тихой комнате мы с тобой должны читать Булгакова, зажечь свечи, и мне нужно, чтоб ты говорила со мной, как с ребёнком. У тебя бывает такой голос взрослого, успокаивающего глупого ребёнка. Нет, не глупого, а маленького.
"Вот и хорошо", -- говоришь ты, а мне совсем хорошо, потому что я ещё не уехала, потому что мы ещё вечером будем пить чай, а потом ты что-нибудь рассказываешь, а профиль твой как-то удивительно тонок, и глаза синеют, и трогательно поджимаются губы.
Душа моя Танюша, спасибо жизни, Михайловскому, судьбе за тебя. И нет дня, который бы мне не хотелось увидеть с тобой ещё раз.
Вечер, зимний вечер. Где ты сейчас, дружочек?
Может быть, опять побежала мимо своей Святой Татьяны к Консерватории?
Поклонись Петру Ильичу, моя нежная голубушка, моя родная девочка. Зайка, родной мой,
прекрасный мой друг, мой друг единственный, как хочется закрыть глаза и знать, что откроешь их -- а рядом ты.
Спасибо тебе, малыш, твою посылку я получу завтра, спасибо, мой трогательный дружочек.
Моя родная, будь здорова.
Целую тебя. В.
Татьяна НИКОЛОГОРСКАЯ
Тёплое письмо, как пирожок,
Положи за пазуху, дружок.
Радость непомерную неси,
Словно дружбу верную, в горсти.
Свой сосуд впотьмах не урони,
Всем дыханьем воздух потяни.
Пусть она звенит в твоих ушах,
Дальняя хрустальная душа.
Добрых слов, спеша, не пожалей.
Из ковша разлей себя, разлей.
(Стихи мои на обороте конверта, таящего это письмо, помеченного в Москве 18.12.78 г.)
Около 13.12.78.
Душенька моя,
спасибо за шапку. Посидела в ней минут 15, как дурак: ребёнок мне шапку прислал.
Заяц ненаглядный, напишу подробно в понедельник, завтра 6 уроков, педсовет,
послезавтра -- гости.
Люблю тебя.
В.
(30 ноября 1978 года Вере исполнилось 40 лет. =Т.Н.=)
Начало декабря (?) 1978 г.
(...) Вчера в "Вечёрке" некролог "про предчастну смерть" Кондратьевой Марии Лукиничны.
Я видела её один раз -- спасибо Кобякову (самому передовому моему директору). У неё в 61 школе был Пушкинский кружок. Существует он уже 25 лет, собирается по средам в 6 часов вечера.
18.12.78 г. Киев
(В том же конверте)
Зайка, это старое письмо.
Начала утром, не успела отослать, вернее кончить, отложила -- и -- о всемогущий склероз!
Сейчас 5 утра, понедельник, 18 декабря.
В 61 школе, у Кондратьевой, я была, когда кружку было 19. Дети её носили значки с автопортретом Пушкина, собирались по средам в 6 часов вечера, а о старосте я рассказывала. Это она две недели не могла разговаривать с подругой, которая, выслушав "Желание славы", сказала: "А Асадова я всё равно люблю больше!" Вот тебе дикость, когда печатная пошлость 60-70-х г.г. XX века оказывает на душу ребёнка большее влияние, чем вечный, чистый, прекрасный Пушкин.
Женщина ещё молодая, интеллигентная, умная зачем-то умерла. (...) Мне изба нужна, девочка. Отойти нужно. Сидеть у самовара и пить очень крепкий чай вдали от суеты. (...) как писал Пушкин Чаадаеву: "Дружба с Вами заменила мне счастье".
Целую тебя, мой прекрасный друг. В.
17 декабря 1978 г. Киев
Моя родная,
меня всякий раз прошибает слеза, когда ты начинаешь так заботиться обо мне: шапка, деньги, -- дурачок мой, ко мне никто не был так внимателен, никто из тех, кого я считала своими близкими друзьями -- Магдич, Лина.
Светлая моя девочка, у тебя экзема, ты недоедаешь -- и ты шлёшь деньги. Голубушка моя (...). Ты ничего не должна, помни это! Ради Бога, не обижайся на меня. Мне хочется, чтоб тебе было хоть чуть легче, Заяц мой с б о н б о й на боку.
Очень трогателен твой рассказ о Переделкине, фестивале, значке и несостоявшейся драке; ты -- художник, моя Танька, писать тебе п' гозу п' гезгенную!
Только у тебя она будет не презренная, а поэтическая, pardon -- пиитическая.
Зайка,
а З а ж у р р ы л и н о фамилиё я уже на второй книжке вижу!
("Пушкинский Петербург" и "Жизнь и лира" - во! А ты хочешь, чтоб она на нас с любовью смотрела).
В.М.
(...)
Прелесть моя! Дождь (дожзнь, даждь) идёт!
Общеславянское: укр. дощ. бел. дождж. польск. deszcz. др.-чешек, desc, чешск, dest, словацк. dazd (вот где оно! твоё д а ж д ь), с.-х. дажд.
УРА!
А Кондрашин -- таки-да -- уехал.
Жаль!
О моя юность
О моя свежесть!
НИКОЛОГОРСКАЯ --
моё солнышко!
ТВОЯ БАБА-ЯГА.
Я тебя люблю! До неба!
21.12.78.
Родная моя, прости, у меня сейчас проверка, волнуюсь (...), ненавижу себя за это волнение, а вернее -- страх, ночь не сплю, хочется реветь, на душе -- гаже не бывает.
Начинаю ненавидеть работу.
Господи, куда деться на покой!
(...) В.
P.S. Спасибо за "В списках не значился", ты нашла лучшее.
Для меня это значило то же, что и для тебя
Жду всегда, а ты напиши, что решила, для меня это важно.
Киев. 24.12.78 г.
Родная моя,
где ты, мой дружочек: в командировке? Неужели болеешь (или мама нездорова?) Нет писем. Вчера вечером папа пошёл за почтой, я подумала: вот уже в этот раз будут. Нет.
Дружочек мой, прости, что ною: писем нет всего два дня, а мои перерывы сейчас, наверное, длиннее.
Меня всё ещё проверяют. Проверяющей я как будто понравилась. Так она сказала. Но мне всё равно противно.
Она пришла на "Господ Головлёвых", там я ей очень понравилась, на Маяковского (тут я себе понравилась, а она мне дала совет: записывать цитаты; совет был лишний, потому что урок был поэтический, -- редко я себе нравлюсь; тебя я на этот урок не пустила бы, ты -- это сосем другое, даже не представляю, что бы могло понравиться тебе, нет, не понравиться, а быть достойным твоего внимания).
Мне надоело, что меня проверяют.
А ещё Некрасовский вечер, Некрасовские конкурсы -- это, конечно, приятнее, чем проверки, обидно, что на это времени не хватает.
Зайка ненаглядный,
когда ты приедешь? Что у тебя? Боюсь за твоё состояние в смысле ГРЭКОВСКОЙ проверки ваших мозгов.
(...) хочется отъединиться от этой слишком организованной жизни. (...)
Таня, Танька, Танюша (...) закрыть глаза и забыть о мелочах и пакостях жизни, а знать, что есть твоя дружба навсегда. (...) Прости моё бормотание.
Вера.
25.12.78.
Мой сероглазый Малыш,
не смей посылать денег; разбогател чертёнок рыжий! Господи, до чего же я люблю тебя. Тепло на сердце -- и всё. Вчера думаю: ведь по всем человеческим меркам я несчастлива (...), а мне тепло -- Танька, моя Танька мне такое письмо написала.
Ребёнок мой, все каникулы я на курсах. Если удастся операция "Ы", удеру только на 1-ое, 2-ое (...). Если не удастся, мой кутёночек, не горюй, не плачь (...) приезжай 8-го. 9-го у меня конференция -- в крайнем случае плюну на неё, но лучше -- 7-8 (7-го ты дежуришь! А почему дежуришь????)
(...)
В.
28.12.78.
Душенька моя, что-то ломит у меня поясницу -- ужас, ужас, ужас, хочется спать, спать, спать, проснуться возле твоей ёлки, чтоб тихо падал снег за окном: бывает же счастье, какое бывает счастье, Заяц мой. Ты (...) вдруг шаловливая (...) сероглазая девчонка, совсем ещё девчонка.
Умница моя, я ещё не сдвинулась с места. (...) В каком-то отупении живу.
Реветь хочется от каторги на работе.
Будь счастлива, моя светлая, моя славная.
Твоя Вера.
6 января 1979 г. Киев
(...) Для тебя приезжал Рихтер и поставили "Пиковую".
Ты, мой дитёнок тихий, добрый, я буду жить памятью о тебе.
Красивый, добрый мой друг, мой самый (...) лучший на свете.
Рождество Христово и твоё.
Во Владимирском будет толкотня. И свечи зажгут, и дьякон будет читать-распевать густым голосом (...).
Ты уехала. Уснула ли ты в поезде, моя нежная, моя добрая сестрёнка?
Сероглазая моя, спи, завтра Дворец, я молюсь за тебя: чтоб не ранили тебя, чтоб дома было спокойно, чтоб прошли твои волнения из-за статей: ты права, моя подруженька, как сладко грезить, нет, не сладко, как н у ж н о грезить, как это светло.
Открыла дневник Никитенко сейчас -- что-то не читается, а читается зимний и благоуханный Булгаков, и Киев становится любимей.
Ведь это ты научила меня с любовью смотреть на Киев, моя светлая.
(...) Жизнь моя, душа моя, помнишь митрополита? Он и нас благословил.
Твоя В.
10 января 1979 г.
Родная моя,
вчера ещё раз смотрела "Пиросмани". Очень боялась, что рядом (...) не так примут этот фильм -- и опять те же слёзы -- и остановить их нельзя (...) детей нет, помнишь он вбегает -- возвращается в духан, увидев женщину, кормящую младенца: "Я задыхаюсь!" Но мне легче: есть у меня ребёнок, друг, ты.
Господи, насколько мы поумнели; я только подумала, что можно было приписать этим людям: Христос вначале -- читает Пиросмани -- и Христос воскрес! -- и умирающий художник поднимается -- разве можно!
А ещё всего полно: отрешённость какая, активности никакой, а где изображено УВДОХНОВЕНИЕ, и что это за отары. И овцы. (...)
Светка Карпиловская была мною слегка побита. Оказывается, она знала о месячнике, вывесила в своём институте плакат: "Смотрите фильмы лучшей в мире грузинской кинематографии", а мне не позвонила. На это я ей сказала: "Ты видишь, Светка, как я выгодно отличаюсь от тебя? Я сразу -- тебе, а ты?" И Светка сказала, что она будет страдать и помрёт от горя, если я ей не прощу. И я ей велела страдать молча (...).
В.
Тогда же. (Второе письмо)
(...) Родная моя, это было в какой-то другой жизни, мы были с тобой в жизни вечной и справедливой, без подлости и зависти, без злобы и желания уязвить. Мы плакали глупыми слезами, счастливыми слезами, горькими слезами, мы увидимся ещё. И сегодня так остро ощущается твоё отсутствие. Где ты, моя девочка? В своём этом самом литературном уголке Дворца? И рядом с тобой дети. (...)
Зайка, милый Зайка, ты мой хороший кутёночек, сероглазый эскимосик!
(...) Ты всегда-всегда помни, что ты помогаешь мне жить. Твой спокойный голос мне помогает, твоя мудрость, твоя иногда совсем детская весёлость.
Живи и помни! (...) не горюй, не горюй, не горюй, не кручинься, не печалуйся, будем считать дни. (...)
В.М.
14 января 1979 г. Киев
(...) Слушала вчера рецензию на сборник Вознесенского, вышедший в США. Они захлёбываются, радуются; прочитали стихи про Шукшина (я настолько уже не верю в искренность Вознесенского, что "хоронила страна мужика и активную совесть" показалось мне притянутым друг к другу -- щегольнуть разрешённым вольномыслием); потом они прочитали цитату: поэт желает, чтобы "в каждой дыре завалящей" был "водопровод и свобода мысли".
Господи, на какую дешёвку ловится американец, куда как смело -- соединить водопровод со свободой мысли и угодить сразу двум хозяевам.
Падение Евтушенко и Вознесенского -- от неглубокости духовной -- душевной (и невысокости --и от отсутствия, наверное, всё-таки святого недовольства собой). Хотела написать, что Евг. при этом явно несчастлив, а потом поняла, что неправа. Нельзя испражняться в поэзии так, как это делает он.
Ладно, Бог с ними. (...)
Мама рассказывала про вечер Ваншенкина. Ему задали вопрос: "Являлась ли Вам Муза?" И ещё: "Чтоб писать стихи, нужен талант или нужно учиться?"
Вот тебе и "останкинский" читатель! (...)
Твоя В.
20 января 1979 г.
Родная моя,
где ты, душа моя, уже в Воронеже? Что-то в этом названии для меня загадочное: Воронеж-Воронич, и река какая-то там. Или нет реки?
А деревня какая? Избы рубленые или хоромы каменные, как в нашей буржуинской Украйне?
Заяц, заяц, скоро Татьянин день. Хочу, чтоб этот день у меня был тихий со снегопадом не очень обильным, а у тебя:
чтоб было светлое вино (почему-то светлое), апельсины и Танька Пономарёва.
Мне хочется для тебя и доброй тишины, и света, и доброй беседы с друзьями.
Вчера вечером тебя увидела так ясно, нет, не так, как в грёзах, а так, как наяву (...) Через несколько мгновений ты исчезла.
Не исчезай!
Родная моя, родная моя, как ясно и тепло с тобой, как хорошо и легко.
Помнишь, как мы вошли в "Киев" и ты не могла отогреться. Помнишь?
(...) Твоя В.
Киев. 22 января. 2 ч. ночи (...) 1979 г.
(...) А помнишь Звенигород, вечно мне памятный? Почему так быстро стемнело, и какой ты оказалась тактичной умницей, а я глупой дурой вспыльчивой. А как мы шли в Дютьково, помнишь? Мне всё время казалось, где-то рядом волк. Но ведь я смело себя вела, правда? (Если не считать того, что струсила и не подошла к обрыву). А голодную кошку на монастырском подворье -- помнишь? Как она схватила колбасу лапами-руками и бросилась от нас. Моя родная, этот Звенигород всегда во мне, и дом лесничихи, и Каменка, и Москва, и Киев, -- и столько воспоминаний, что можно писать к н и г у, и цикл симфоний, и что-нибудь бесконечно прекрасное в стихах, прозе, красках.
Родная, а в Каменке были белые дома. Но когда солнце взошло, мы их ещё не видели. Мы видели только розово-золотое окно. И шары -- это ты привезла, да?
И какой святой, ненарушимый покой был в Каменке. (...)
(...) моя родная девочка, сегодня воскресенье, и мне страшно: вдруг ты сегодня где-то там в лесу, в бездорожье, и холодно тебе, а я здесь, в этом тёплом Киеве. Молюсь: Господи, пошли ей тепла, чаю горячего, хлеба тёплого (...), сон добрый. Пошли, Господи. (...)
В.
Киев. 24 января 1979 г.
(...) Сбудутся твои мечты. Будет о нас сборник. А потом ещё. И проза. Лирико-драматическая литкритика. (...) мой дружок.
В.
27 января 79 г. Киев
(...) прочитала твоё письмо (...) о возвращении из командировки (...) Родная, рада за к н и г и. Не беспокойся обо мне, дружочек. Бунин у меня есть. А за тебя рада, родная ты моя, мой поэт сероглазый.
Вчера была в библиотеке, увидела книгу Н.В. Колосовой "Здравствуй, музыка!", обрадовалась; родная, сколько ты радости внесла в мою жизнь.
(Надежда Васильевна Колосова -- жена писателя В.И.Порудоминского -- была моим "пионерскодворцовским" руководителем в 60-е годы =Т.Н.=)
И ношу я теперь в себе (...) счастье знать тебя. (...) До свиданья, зайчик. До свиданья, лопоухонький, сероглазенький, умненький глупёныш.
Твоя В е р к а.
2 часа ночи, январь, на март похожий. 29-е?
(...) целую твоё ухо. Твои у х и. И не смей плакать. Вот так. (...) Можешь даже что-нибудь бормотать про дождь и даждь.
За великий русский язык и против ЕТИХ самых ТИМОЛОГИЧЕСКИХ словарей, какие ТИЛИГЕНТИШКИ выдумали.
Родная моя, сейчас, ночью весенней (лужи, воздух тёплый и влажный) январской шла домой. Что у тебя, девочка?
У меня: была у И. (...) И. собрала друзей. Разговоры мне надоедают. Я напяливаю маску любезности и слушаю. (...) Когда один из мужчин сказал что-то небрежное об Александре Матросове, я возразила -- меня поддержали все. Ей-Богу, не ожидала этого от отъезжающей компании.
И когда я возмутилась дальше -- сплетням о краснодонцах -- поник главой даже мой противник: "Вы не думайте, я не кощунствую". -- "Человек п о г и б. О ч ё м ещё можно говорить?" И он умолк.
Господи, как много людей уезжает. Мне страшно (...) А разговоры -- чужие, интересы -- чужие, хотя пошли Господь всем добра!
(...) Почитала Лотмана дальше. Местами интересно.
Твоя коровища безрогая (...)
В.М.
Киев. 31 января 1979 г.
Заяц,
голубчик мой славный,
вчера -- 6 писем от тебя. Каждое -- целую.
(...) Зайка, пришло твоё письмо из Воронежа. Ты знаешь, на могиле Баратынского тоже высечено "Б о р а т ы н с к и й", так что интересно, кто же он: Бо - или Ба -?
Может быть и то и другое, ведь и Лермонтов подписывался (под очерком о Москве, по крайней мере) Л е р м а н т о в (там, правда, от Лермана, шотландского предка). (...) спасибо тебе (...) за удивительную нашу созвучность. (...) Глупо нам спорить по пустякам, мы слишком родные люди. (...)
Душа моя, судьба моя, мы н а в с е г д а, пока живём. Говорю это, понимая, что были люди, от которых я отходила. Но потерять тебя -- это потерять всё самое чистое и высокое в себе, это умереть духовно (...)
Наталья (Колыбина.=Т.Н.=) прислала открытку из Парижа: "Спасибо за факультативы, на них было так хорошо!" Мне тоже на них "было так хорошо" (...) и от присутствия Натальи тоже.
(...) Прости, дружочек, будь здорова.
(...) Твоя Верка (...)
Киев. 1 Февраля 79 г.
(...) НЕТ, НЕ СОЗРЕЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЧЕРЕЗ 100 И ЧЕРЕЗ 200 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ПЕРЕПИСКИ И НАШЕЙ ДРУЖБЫ (...). Оно будет тратить себя (...) на накопление побрякушек, на труд без радости. И будет по-прежнему (верю в незыблемость мещанина) гнать непохожих. Живи, как я!
(...) мне досталось много людей умных, добрых, терпимых -- и всё равно страшусь я неразвитости душевной подавляющего большинства.
(...) В.
Киев. 2-3 Февраля 79 г.
(...) Мне трудно объяснить все мои дружбы, знакомства, привязанности. Мне не хочется строго судить себя: уже мне сорок, изменюсь ли я -- не знаю. Моя общительность граничит с бестактностью? Обещаю тебе, девочка, что присмотрю за собой в этом смысле.. (...) Иногда повторяю себе: молчи, молчи -- то, что ты сейчас скажешь, никому не интересно, -- и знаешь, удаётся промолчать.. (...)
Увы, чаще -- говорю, когда никто не просит, потом мучит меня воспоминание о моей фальшивой интонации или неестественном оживлении (...). В общем, не позволяй душе лениться (...).
Слушаю твоего Клиберна, думаю о тебе. Очень люблю тебя, Танечка. Ты знаешь это. День начинается мыслью о тебе. Ты моё солнце, ты самое светлое, что есть в моей жизни (...). До свиданья, моя родная.
Твоя В.
Киев. 5 Февраля 79 г.
(...) Ты смотришь на себя в зеркало равнодушно и строго, ты видишь в себе черты боярыни Морозовой, ты и правда -- из русских прерусская, а лицо твоё застывает в этот миг (ещё Толстой понимал, что нельзя увидеть себя в зеркале).
(...) Читаю мандельштамский "Посох" -- и ты передо мной весёлая. А знаешь, что вдруг меня поразило:
"Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?"
Значит, это есть в тебе и в нём.
И в каждом обогнавшем.
(...) Дождусь тебя. Родная, родная, родная моя (...) В среду в школе секретарь райкома -- значит, надо мыть шею. А работать когда?
Господи, почему я, зачем я бросилась в это народное образование?
(...) В.
Киев, около 11 Февраля 79 г.
(...) только что получила "Весть" и Тютчева. Спасибо, мой голубчик. Самойлова успела чуть перелистать. (Речь идёт о новой книге поэта. =Т.Н.=) Как тебе "злобная правда", которая "страшнее клеветы"? Я подумала, что мы с тобой воспринимаем это одинаково. За точность цитаты не ручаюсь.
(...) родная моя. Думаю о тебе всё время. Не думаю уже сейчас о будущем: ты права, мой лопоухонький сверчок, всё в настоящем.
(...) Что поднесёт нам судьба? Но знаю, что ты, поэзия нашей дружбы возвысила меня над обыденностью жизни, я не верила больше в полёт души (...).
Твоя В.
Киев. 11-12-13 Февраля 79 г.
(...) Много перебрала из своего прошлого. (...) Понимаю, что поздно кого-то винить, поздно повзрослела, слишком много оставила в себе бесхребетности -- ты права. (...) вспоминаю, сколько раз молчала, уступала молча. Страшно.
........
(...) Плакала об Иване; кому расскажешь, что плакала о смерти человека, которого видела только на фотографии -- мальчиком. Родная, ты писала -- немыслимое горе, да, немыслимое. (В феврале трагически погиб мой брат. =Т.Н.=) (...) у мамы это горе не уляжется, нет, может быть, -- нет, не пишется -- станет легче, не станет; может проявляться будет не так, как в первые дни?
Да, вы друг у друга остались (...) я понимала, как тебе тяжело и страшно, но ребёнка похоронить! Как крестьянки говорили -- рожоный мой.
Прости. Я сбиваюсь. (...) И его жизни мне жалко. (...) Какие страшные сны были у меня десятого. (...) Тяжесть не проходит. Это от твоей боли. Какой ты бываешь мудрой и как умеешь всё понять. Друг мой, сердечко моё.
(...) мы никогда друг друга не потеряем.
Твоя Вера.
Киев. 16 Февраля 1979 г.
(...) о маме уже боюсь спрашивать, просто молюсь о ней. Ни один пример, встреченный мною, не подходит. Мама Алика Брагинского знала, что потеряет сына (...).
Вспоминаю "Орину, мать солдатскую" -- и сердце рвётся от вечности этой материнской боли. Помню краснодонских стареньких мам.
Зачем горя столько на свете, зачем?
(...) Сегодня опять школа! Трудно работаю в этот год. А может, вообще, износилась? И не стоит срывать нервности (неровности?) характера на детях.
Впрочем, в "ЛГ" разговор Долецкого с Азаровым. Долецкий говорит, что спокойный тон -- это принцип, Азаров -- что принципа нет и не в тоне дело. Можно извести спокойным тоном. (...) Долецкий прав, но и машиной быть нельзя: иногда ребёнок должен почувствовать, что на него гневаются.
Впрочем, как говорила Евфросынiя Сэмэывна из 167 школы: "Цэ дiло тонкэ."
Парни 9-классники глупые. 10-е -- ещё ничего.
Тяжко идти -- "Война и мир" сейчас, а смотреть придётся в пустые глаза. (...)
Таня, Таня, где белые вишни?
Струна звенит в тумане.
Хочу сейчас, утром, позвонить тебе -- и страшно.
Спустилась за письмом. Письмо есть (...).
Как все наши тяжелы формы жизни, как наши, чуть ли не с детства самостоятельные, родители не понимают, как нужна нам совсем своя жизнь! (...).
Твоя В.
Киев. 17-18 Февраля 1979 г.
(...) длинный день сегодня (...). Завершается состоянием неловкости и раскаяния (лучше по-украински - каяття).
Утром -- уроки. (...) Лермонтов. (...)
Потом пришлось идти домой к Шеверуну. (Это тот, что встретил тебя внизу). За это время он успел влюбиться в свету Шевченко, ударить по руке молодого химика, побегать по двору с каким-то колом; когда я вышла, сказал: "Пошла ты..." Я засмеялась и пошла. После урока он ждал: "Извините". -- "Куда я денусь, ты мой крест, а вот с остальными как будет?"
Директор решил вызвать его на родительский комитет. Вызвали, пришёл папа. Пришёл Игорь. Еле уговорила его поздороваться с родительским комитетом. "Что я, шестёра, что ли?"
(...) Я купила книгу. За 50 копеек. Для тебя и для меня. (...) "По нижней Печоре". Край, где был сожжён Аввакум. Сфотографированы женщины в северных костюмах. Улица северной деревни, с дощатыми тротуарами. (...)
Позвонил Сашка. Пришли трое: Сашка, Перя и Сергей. (...) Перя наивно мудр. (...) Он не ортодокс, но он не может отрицать ради отрицания, как это у Сергея. (...) На лестнице я его окликнула и перекрестила на прощанье. (...) Таня, Танюша, дружочек мой, лебёдушка моя (...), что сейчас у тебя? (...) всё счастье моё -- это воспоминания. (...)
Твоя В.
19 Февраля 79 г.. Киев
(...) Получила сегодня из Михайловского письмо. Симеон пишет, что он упал и разбил бок, теперь лежит. Грустно мне за него, хоть пишет он, что треснулся боком и ещё что-то весело.
Наверное, нелегко с одной рукой подниматься. И ещё письмо от Тамары Манташян. Письмо художественное. Страшное (...).
Конец письма вдруг о тебе (...):
"Хорошо, что Татьяна может выразить себя словом" (...).
В Ереване уже весна. А Тамара, казавшаяся мне несколько рассудочной и почти благополучной, пишет: "У меня всегда был страх, единственно большой и не проходящий с годами: с ума бы не сойти".
Странно она раскрылась, а натура интересная. Художническая. (...)
Киев. 20 Февраля 1979 г.
Моя голубка,
вдруг начинаю громко с тобой разговаривать, так громко, что пугаюсь себя. Насчёт "сойти с ума" я (...) благополучно была в себе уверена: казалось, что во мне заложено какое-то спокойствие невероятное, несмотря на обидчивость, впечатлительность и т.д.
Наверное, письмо из Еревана с жутким Тамариным сном меня напугало. А несчастье в твоей и маминой семье тревожно вдруг отзывается: да, ты права, в чём-то все должны стать умнее, мудрее, лучше, а смерть -- всегда дикая нелепость, а ещё такая! (Ваня сварился заживо 22-х лет от роду, вместе со своим тестем Олегом Николаевичем, вследствие преступной халатности работников ЖКХ в морозную зиму, когда лопались под асфальтом трубы теплоцентрали =Т.Н.=)
(...) понимаю. Как тяжко (...) видеть маму в горе, в таком горе. 3а что? Нет, это не бывает за что-то.
Мама мне представляется женщиной с твоими глазами, только они темнее -- и вдруг сердце защемит.
Обещала тебе не ныть. Не буду. (...) Буду уговаривать себя не думать о зыбкости существования, о суете и шуме вокруг.
Не дай мне Б-ог сойти с ума (...).
А вдруг случится то, чего я -- не боюсь? (...) сегодня обидела девочку-десятиклассницу -- и это особенно стыдно. (...) обидела зря, при классе, и она не смогла мне возразить, уж очень вежливо и едко я говорила.
Старею, перестаю понимать 17-летних. Она пошутила. А во мне (...) крякнула. Нельзя быть такой. Какой? Я терпима в большинстве случаев. А тут вдруг ударила некрасиво. И не за что было.
Вечное моё состояние вины.
Танечка, Танюша, спаси во мне добро, очень тебя прошу, очень-очень.
Родная, светлая моя подруженька, очень нужно мне твой голос слышать.
И чтоб ты что-нибудь серьёзно говорила. Я, ей-Богу, постараюсь всё понять. (...)
Вера.
Киев. 24 Февраля 79 г.
(...) Чудная моя девчонка, какие мы глупые с тобой были и, наверное, ещё будем? А может быть поумнеем?
Как я орала на тебя на улице ночью из-за проклятых словарей (все сожгу к чёрту и евонной матери) -- самое лучшее на свете занятие -- слушать и читать Никологорскины изыскания: шелом -- шолом -- челом -- дождь -- даждь, толчите -- толцы-те -- цыц-те, гады!)
Зайка, зайка,
я улыбаюсь сейчас во весь рот, напиши: у тебя есть О'Генри или у тебя нет ЕГОГО самого 0'Генри.
Ты свет мой, ты тепло моё, ты небо моё, ты вершина, к которой надо идти мне, мучиться, задыхаться. Но идти. Да нет, где там мучиться! Мне радостно очищение, принесённое тобою моей душе (...) я буду тебя слушаться.
(...) Серёжа Болотов гадал очень интересно. Я гадала по звёздам на тебя. Он по твоему дню и году рождения сказал: "ГЛАВНАЯ ЧЕРТА -- ПРИВЯЗЧИВОСТЬ В ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ ДО КОНЦА". По моему гороскопу вышло, что в нашей дружбе подчиняться буду я. (...) Родная, это письмо брошу в ящик ещё сегодня, а завтра напишу тебе. Вчера день пропустила. Прости (...).
В.
Киев. 25 Февраля 79 г.
Почти ночь
(...) Все мои друзья хороши, и любимы мной, и я не лучше их (...) но если б я не встретила тебя?
Я не знала бы, что бывают такие вершины духа -- нет, я не то говорю. Это совсем не то.
И всё-таки правда. (...) Малыш мой добрый, я не знала, что у меня будет такой друг. (...) я не могу представить себе, что мы и трёх лет ещё не знакомы. Весь мир был с тобой, вся жизнь была с тобой, и я сейчас вижу тебя девочкой с косичками (...).
Родная моя, с тобой я вдруг вспомнила, что у меня было детство и Дом Чайковского. И река Сестра со стрекозами, и луг с одуванчиками.
Танюша, не знаю, как это объяснить, но ты во всей моей жизни, в прошлой и настоящей.
Я не хочу думать о далёком будущем. Подумаем о марте, а потом задумаемся о лете (...).
Мне очень страшно было бы обидеть тебя (...) береги себя, ты дорога мне бесконечно.
(...) твоя Вера.
Киев. 28 Февраля 79 г.
Здравствуй, родной малыш,
Растерялся от пяти писем (ну, зачем я проболталась, пошёл бы Заяц на почту и получил бы десяток писем, ну, поругался бы немного, но всё-таки был бы рад, мой глупенький?) Родная, сероглазая моя девочка, трудно ответить на вопрос, что будет впереди. Сердце рвётся к тебе, как рвётся, моя хорошая, моя добрая!
"Ты меня не знаешь!", -- ты говоришь это и пишешь.
Маленькая, прости меня, может быть, ты права: человек и себя-то не знает. Но ты моё сердце, моя совесть, моя правда, я всегда знаю и помню это. И ещё есть чудо -- твой голос. Глубокий, чистый, нежный -- когда ты говоришь, и совершенно выражающий тебя, с твоей удивительной правдивостью, когда ты поёшь. Как хочется, закрыв глаза, его слушать (...).
Родная, девочка моя прекрасная, как ты это сказала: "Утешь меня".
Зайка мой, если б не это проклятое расстояние. (...) поеду завтра за билетом. (...) Каково тебе будет, как сможешь ты встретить меня?
Ладно, не буду об этом. Не сердись, помни меня, зайка.
Твоя В.
1 марта 79 г. Киев
(...) За что ты просишь прощения, моя подруженька?
Если б я могла по-настоящему помочь тебе (...).
Маленькая моя, как я знаю вот эти ночные одинокие слёзы и понимаю их. И плачу до сих пор. Хоть ты молода, а моя женская судьба определена: матерью мне не быть. Я не задумываюсь над страшным смыслом этих слов.
Задуматься -- носить это в себе всегда.
(...) я хочу, чтобы жизнь твоя была полной, я очень этого хочу (...).
Родная моя,
всё мне дорого в тебе, и никогда ты не говорила и не писала "грубо" (цитирую тебя). Грубость -- свойство души, а не черта поведения -- в этом я уже давно убеждена, а душу твою я знаю. Ты не можешь быть грубой. (...)
Я не нашла слов для тебя, я не отвечала на то, что тебя тревожит, родная моя, если б я знала, что ответить. Ведь я разве могу быть примером, я, вздрагивающая даже не от удара, а от его возможности.
Мне стыдно перед тобой за многое, о чём я раньше не задумывалась.
(...) голубчик мой, просыпаюсь и говорю с тобой и живу мыслями о тебе. (...) Целую тебя, моя родная. Будь здорова.
Твоя Вера.
11 марта 79 г. Киев
(...) сейчас поздний вечер, двенадцатый час, хочется закричать так, чтоб ты услышала меня. Услышь, моя хорошая, моя ясноглазая (...), как заполняешь ты мою жизнь своим присутствием в этом мире.
Много лет тому назад Майка Шефтелева сказала мне: "Надо тысячу лет скитаться в космосе, чтобы встретить тебя". Мне это ужасно польстило, хоть и показалось шуткой. А теперь я говорю это тебе: надо было тысячу лет скитаться в космосе, во тьме, быть ненужной и нелюбимой, одинокой до рыданий, до ночного ужаса, пережить животный ужас смерти от нагромождения кладбищенских камней, а потом -- встретить тебя.
Встретить Ариадну (Чернову, супругу Сосинского.=Т.Н.=), светлого ангела, жить с сознанием и страхом своей недостойности, вдруг потерять её -- казалось, -- всё, я написала: "Я больше никогда не испытаю ощущения полёта", -- и вдруг Ты -- подруга, сестра, жизнь.
Мы не привыкнем к прощаниям. Они просто стали менее трагичны, потому что мы всё равно увидимся, моя родная; не то слово, но: меньше ревём и мучимся, (...) она виновата перед нами -- жизнь (...), но спасибо тебе -- за высоту, за полёт, за то, что ты мой друг. (...)
Твоя Вера.
Киев. 12 марта. 79 г.
Моя родная,
вчера получила твоё письмо из Риги. Спасибо, мой голубчик, ты тоже мне старший друг во многом. Есть человек, который бывает сильнее меня, когда мне плохо, голос, который утешает.
Милая (...), слышу твой голос (...), вот голос моей защиты в этом мире -- прости, это, наверное, опять общие слова, и я боюсь тебя обидеть.
Таня, милая, если б я знала, как развести нашу беду: теряем наш дом! Каждый раз теперь нужно будет думать, где встретимся. Что тут придумаешь? Больше фантазии, чем на гостиницу в Клину или в Звенигороде -- у меня не хватает. Каждый раз что-то выдумывать -- знаю, как это трудно, -- да мне ещё легче, чем тебе. (...) за что нам это испытание? Нет у меня ребёнка, нет защитника-мужчины, есть у меня человек, в котором жизнь, думы, тревоги и радости -- это т ы. И судьба лишает нас возможности видеться у тебя дома. Милая (...), я несообразительна и глупа, чувство у меня, что пишу не то, прости меня, родная. (После гибели брата "повисла в воздухе" съёмная квартира. Я вернулась к маме. =Т.Н.=)
Глупенький мой, почему ты пишешь так о стихах, что прислала? Я и так всё понимаю. И люблю тебя, и всё написанное тобой. (...) Всё -- в том смысле, что есть стихи, которые всегда со мной, как музыка, которые я вижу: зелёный пух (?!) в Москве, зима -- троллейбусные провода, ты вбегаешь в лес -- и ветки с дождём, "молодею или умираю" -- это я почему, это слишком во мне, -- и много есть ещё того, что я вижу и слышу, -- под лесной диалог я согласна: давай улетим (...). И не пиши о себе строго: полюбуйся, какая я! Ты красота, увиденная мной (...) и разреши мне писать о тебе -- что захочу.
А то трудно (...). Трудно не от обиды: её нет, трудно от сознания, что могу тебя обидеть.
Родная моя, до свиданья. Дворники что-то скребут: за ночь выпал снег. (...)
Твоя В.
18 марта 79 г. Киев
(...) Уже сорок -- грустно, мой малыш, верю, что можно родить ребёнка, а не решусь уже. Жизнь прошла? Как странно быстро прошла. Иногда кажется, что клинское детство, голубые стрекозы над рекой Сестрой, лилии в пруду, луг одуванчиков перед парком -- это давнее-давнее прошлое. И не тридцать лет прошло, а неизвестно сколько, а то вдруг -- Господи, когда успела постареть?
(...) Когда раздался твой звонок, я только что положила трубку: звонил Ал. Он странно себя ведёт в том смысле, что звонит неизвестно зачем и говорит неизвестно о чём. Я с радостью нахожу в себе спокойную вежливость и равнодушие, ты одна навсегда мой друг. Он предал как товарищ просто, и во мне нет прощения. (...)
За мать больно. Её горе на всю жизнь, но почему т ы от жизни должна отказаться? Мне хочется верить, что как-то квартирный вопрос уладится, будешь ты чаще у неё бывать (...) и поймёт она, что нужна тебе квартира.
(...) Дорогая моя, прости меня за всё, что я не умею сказать тебе.
Всегда ты в моих мыслях.
Твоя В.М.
(...) Нет, я сошла бы с ума от всяких тревог, если бы у меня был ребёнок (...).
Вот Псков мелькнул. И прощание. Не первое. И когда вокруг были дом и какие-то неприютные подъезды и песочницы. И боль-тоска.
Родная, не подписываю конверт -- куда писать? (...)
Целую тебя. Вера.
P.S. На почту. Мне кажется, что ты зайдёшь за эти дни на почту.
1 апреля 79.
(...) сейчас ветер воет, в таких случаях мне кажется, что вокруг ночь, степь и провода, всё воет далеко, -- виолончельно почти, а вот опять взвизгнул.
Это Киев, бесснежный, полупросохший (дождички идут мелкие), Киев без тебя.
Неужели ты догнала меня на Казанском позавчера, и я ревела в электричке -- от стыда и от глупости, ласковый мой дружочек. Пусть бы вернулись эти минуты, пусть, пусть, пусть! Зайка, милый, я твой ребёнок.
Я, глупая старая старуха (...), прошу тебя: утешь, погладь по голове. (...) Дорогая моя рязаночка, поезжай к своим истокам,
молюсь ЗА ТВОЮ УДАЧУ.
Твоя Верка.
5 апреля 1979 г. Киев
(...) сегодня четверг -- и ты уже в Рязани. (...) при этом слове почему-то я вижу деревянные дома, старые, с неоштукатуренными стенами, с иконами в красном углу, лики у святых тёмные, и какая-нибудь бабка тебе поёт. Всё, конечно, будет не так, но сегодня утром я вспомнила вдруг свою бабку, похороненную в роще у Селенского, дядю Васю (с тёмным ликом -- это он)...
(...) И живет мой разный, разноликий и великий русский народ без меня, хоронят их, моих предков, мои корни, на берёзовых погостах, а я смотрю на сосны и каштаны -- и живёт во мне Россия, Русь, только далеко она.
Помню, как в окно автобуса (ехали из Киева в Москву -- Суздаль и т.д.) увидела совсем тоненькие берёзки-прутики, была весна, листики мелкие, утро, они весенние, до сих пор видятся мне золотыми, я не подумала тогда "Россия", нет, а сколько раз после при слове Россия видятся мне орловские берёзки, а ведь всю жизнь Россия -- это Селенский переезд, шиповник (...), бабушкин дом, а теперь -- могила. И все они там -- и дед, и бабка, и тётя, и кто-то ещё, неизвестный мне. (...) С детства остался во мне этот мир, а если его нет -- что же есть (...), воспоминание, как шли мы с бабушкой в церковь, она в длинной юбке, и все бабки говорили: "Молись, молись", а тётя Настя уже потом молилась Сергию Радонежскому за меня -- "говорят, он в учёбе помогает", -- или головастики в речке-ручье под овином, колодчик, разномастные собаки -- все с одной кличкой -- Жулик -- вот не могу кончить -- конечно, есть что-то лучше и интересней, чем шиповник, Жулик, лапта, катанье яиц на Пасху, кукушкины слёзки, а мне жаль всех, у кого этого или подобного не было, -- а ведь тогда не казалось счастьем (...).
"Мы эмигранты", -- сказала Наталья Николаевна из Клина. (В Чернигове. =Т.Н.=)
Нет, всё-таки не прижилась я здесь, и не моё это каштановое- каштанное великолепие, а моё -- это Русь моего детства и моего Михайловского. Прости, Заяц, не перечитываю -- страшно. (...)
Твоя В.
Киев, 8 апреля 1979 г.
(...) дети обидят, забудут, не нужна я им, жизнь бессмысленна (моя жизнь), есть ты -- друг навсегда, и только в этой дружбе жизнь и правда.
Вера.
Киев. 8 апреля 1979 г.
(...) Зайка-заинька, милый маленький, вырастешь (прости, завралась), начнёшь писать сочную (эх!) прозу.
Тоже читаю Абрамова о крестьянстве времён Осипа Виссарионыча. Тяжко. Вот жизнь. Кстати, старики помнят всех государственных деятелей и оценивают их по отношению к крестьянам. (...) А о любви ты права (...). Ты веришь, что чувства этих людей были иными. Наверное, ты права. Не так просто, и грубо, и понятно всё.
"ЕЩЁ ГЛУБОКО-ГУБОКО В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ ЛЕЖИТ ТО СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕЛЕСНОЕ ЧУВСТВО, КОТОРЫМ В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ ВЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЯЩИХ ДРУГ К ДРУГУ.
ЧЕЛОВЕК СОВСЕМ ЕЩЁ КАК БУДТО НЕ ДУМАЕТ О ТЕЛЕ, ДАЖЕ САМА МЫСЛЬ О НЁМ ОСКОРБИТЕЛЬНА. В ТАИНСТВЕННОМ, ВОЗДУШНО-БЕСПЛОТНОМ ОБЩЕНИИ ЗРЕЕТ ПОДГОТОВКА ДУШИ К ТОМУ, ЧТО КАЖЕТСЯ СО СТОРОНЫ ТАКИМ ПРОСТЫМ И ЧТО В ЧЕЛОВЕКЕ ТАК СЛОЖНО И ГЛУБОКО.
И ТОЛЬКО, КОГДА В ТЕСНОМ, РАДОСТНОМ ЕДИНЕНИИ СОЛЬЮТСЯ УЖЕ ДУШИ, КОГДА ОНИ НАЛАДЯТСЯ НА НОВЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ДОТОЛЕ НЕВЕДОМЫЙ СТРОЙ, ТОГДА НЕОЖИДАННО И САМО СОБОЙ ПРОБУДИТСЯ ТЕЛО.
ЕСЛИ ЖЕ НЕ СОВЕРШИЛОСЬ ЭТОЙ ПОДГОТОВКИ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ГРУБО, СО ЗВЕРИНОЙ МЕРКОЮ, ПОДОЙДЁТ К МЕДЛЕННО ЗРЕЮЩЕМУ ТАИНСТВУ, ТО ГРЯЗНЫМ, ПОШЛЫМ И МЕЛКИМ СТАНОВИТСЯ ВДРУГ ТО, ЧТО МОГЛО БЫ И ДОЛЖНО БЫ БЫТЬ СОЛНЕЧНО ЧИСТЫМ И СОЛНЕЧНО ВЫСОКИМ" (Вересаев в "Живой жизни" -- о любви толстовских героев).
Наверное, человек должен всё-таки достичь каких-то нравственных вершин, чтоб чувствовать, как Вересаев или Т.Никологорская. Но все равно правы они, а не те, у кого любовь, как у Толстого призыв "бурой кобылки" (...).
Родная моя, прости, что пропускаю дни. Уверена была, что ты в командировке и не пойдёшь на почту. Где ты, моя славная девчонка?
Жаль, что не увижу Твардовского.
А сценарий? Можно Малевой получить?
(...) Твоя Верка.
Киев. 17 апреля 79 г.
(...) наверное, только очень, смертельно усталый Булгаков мог предложить Мастеру покой: дом под вишнями, музыку, любимую -- без людей, а может быть, это и есть счастье.
Огромен и страшен мир людей, и жесток он -- и всё-таки мы люди, мы из этого мира и мы встречали в нём и добро, и любовь, и бескорыстие. И наверное, мы не смогли бы уйти от него. Всё больше я понимаю тебя, -- по крайней мере, -- так мне кажется. Боюсь, что раньше я думала: чтобы писать, достаточно таланта.
Хоть и не так я наивна, как мой брат, но что-то было в моём незнании тревог, трудностей, боли твоей от него. Господи, как мне хочется сказать всем, чтоб они берегли тебя, чтоб они понимали и видели то сокровище ума, чувств, дум, что вижу я в тебе (...) мне хочется вопить, кричать: "Берегите её! Берегите!"
(...) Уже час. Завтра 6 уроков подряд, а сочинения опять не проверила. Бог с ними. (...) Всё. Спокойной ночи, малыш.
Твоя В.
24 апреля 79. Киев
(...) А в воскресенье я искала Игоря в Павловской. В детстве (в Клину) у моей одноклассницы Веры Чайниковой мама сошла с ума. Я её помню: большие карие глаза и волосы, стриженные под Мамлакат. С тех пор такая причёска -- и передо мной лицо -- Верино и её матери.
Поднялась я на гору за Кирилловской церковью --развороченный, разъезженный колеями двор -- после строительства. Усатый, бодрый Павлов (бюст), несколько туй, а вокруг -- мусор, колеи -- после большой стройки. Отгрохали огромный новый дом. Вокруг -- двухэтажные и одноэтажные старые корпуса. На деревянной скамейке сидела стриженая женщина в платке и пела: "Море ласково играло бирюзовую волной...". Голос небольшой, приятный, она им чуть любуется, вокруг неё, наверное, родные. Её выпустили с ними на улицу, и она хоть как-то утверждает себя: поёт очень серьёзно, не напевает, а поёт, и улыбка не жалкая, а настоящая серьёзная (так можно?)
Нашла приёмное отделение, сказали, где Игорь. Один больной взялся меня проводить. Мне стало чуть не по себе: он, наверное, нормален, просто нервен: говорит и смеётся громко очень, пошла за ним.
Пришёл Игорь. Потолстел, стал бело-розовым. Рассказал, как его привязывали, когда он выбросил стул из окна (не сомневаюсь, что сделал он это назло кому-то, а не в состоянии аффекта). Он ещё рассказывал о том, как здесь лечат, как клеил он конверты, какой он здесь король, потому что подружился с санитарами из самой страшной палаты, а у меня было чувство, что ему здесь нравится. Сказалось что-то? То, что к нему внимательны, мать ездит-плачет, он здесь не отщепенец, как в школе? Не знаю. Когда мы прощались, он сказал: "Посмотрите в окно. Видите дорогу? Пройдёте по ней -- и увидите меня в окне 2-го этажа". С моим умением ориентироваться я вышла не туда, не на ту дорогу, но всё-таки нашла её: вдруг мой Шеверун стоит у окна. Он стоял. Помахала ему два раза, он не ответил, но стоял и вслед смотрел. Он знает, что надо посмотреть в окно, где палата. Ему хотелось, чтоб всё было по правилам.
Мне тяжко было смотреть на эту огромную больницу. Она, наверное, предмет гордости киевского здравоохранения, а не безумие ли это нормальных людей -- собирать тысячи нервных, безумных, тихих и буйных, под одну крышу. При мне Игорь передразнил молодого соседа по палате (он тоже в этот момент был в комнате для посетителей). Я зашипела на него, а он: "А что он ночью вдруг гавкать начинает!" Ему это весело; конечно, откуда у мальчишки, да с его воспитанием и нравственным уровнем, сочувствие к этим людям? Нет, нельзя всех в один дом, нельзя создавать чуть ли не город нервных и душевнобольных людей. Один дом окружён забором с колючей проволокой. Там что?
Нужна какая-нибудь тихая роща и дом. Н е гигант.
(...) Какая-то безысходность встаёт передо мной. Жизнь моя прожита. Я не могу сделать уже ничего. Дружба с тобой -- это тот необычный, прекрасный и чистый свет, который открылся мне. И осталось мне: хранить этот свет, жить им. До свиданья, родная.
Твоя Вера.
Киев. 4 мая 1979 г.
(...) Милые мои, родные мои, правдивые глаза, как ты выговаривала мне за этот разговор с дураком по телефону. Милая моя девочка, прости ты меня (...), а Песецкий о тебе сказал: "У неё по лицу видно: скромная и врать не может". (...) не дали нам попрощаться -- и как хорошо: догадался мой дружочек подозвать меня к вагону. (...) ты должна быть здесь, всегда здесь. Где наш дом под цветущими вишнями? (...)
Сегодня первое утро разлуки: солнечное, небо за моим пыльным окном кажется мглистым, птицы лениво бормочут,
а где ты, мой дружок, мой бесконечно любимый человек? Доброе утро (...), вздохни во сне и улыбнись мне.
(...) В.
P.S. Бедная, бедная моя Танька, а как тяжко было тебе от "свэтской" беседы, а Юра (Милейко. =Т.Н.=) так старался развлечь тебя -- и даже пел пэсни в кабинете.
Заяц мой прекрасный, а как ты не можешь слукавить ни взглядом, ни словом -- спасибо тебе! (...)
Киев. 8 мая 1979 г.
Моя Танюша,
получила твоё ласково-мудрое письмо (...) Дружочек мой, вчера ты была в Клину? (7-ое -- день рождения Чайковского.=Т.Н.=)
Утром я вернулась из Одессы, полюбив этот город с первого взгляда, ей-Богу!
И Потёмкинскую лестницу по "Броненосцу" другой себе представляла, и море в Одессе не так красиво, как в южном Крыму, и волнение я там пережила страшное, а город вошёл в сердце, сама не знаю почему. (...)
Приехали в Одессу, тепло, сирень цветёт в руках у встречающих (не нас), а Колька Степура вдруг охромел. Повела в медпункт вокзала -- температура 38,9, через 5 минут -- 39, ещё через 20 -- 39,3. Врач не может ничего определить. Я отправляю своих с Сашкой Бедовым и мамой Д. в экскурсию по городу, а сама смотрю на Кольку -- белого, румяного, крепкого -- и молюсь: Господи, оставь его живым. -- Коля, как ты себя чувствуешь? -- Хорошо.
Приехала скорая. Вышла врач -- старая, носик утиный, морщинки чисто промытые, халат накрахмаленный -- прошла в комнату, где его положили, вышла с диагнозом; врачиха медпункта, пышная, красивая одесситка, сказала с некоторой обидой в голосе: "Значит я плохо смотрела." Бабуля-врач отвезла нас в хирургию, по дороге она расспрашивала о киевской погоде и читала Олешу. Кольке сделали перевязку, укололи; пока я бегала за такси, он поспал и температура упала, в больнице его отказались оставлять: пусть полежит на вокзале в медпункте (одетый на топчане); сели мы в машину к симпатичному и сдержанному таксисту и попросили: "Прокатите хоть по Дерибасовской!" Нашли изнывающих наших у Оперного, а потом на свой страх и риск взяла Кольку (с 36,5, после захода к 1-му врачу, она восхитилась старухой, честно восхитилась) в катакомбы и на морскую прогулку. (...) Без конца трогала виски руками, губами, и он, умница, понимал, что, хоть я и ненормальная, но надо меня простить и понять. Везла нас в катакомбы милая женщина, сказала, что Поженян был один из 13 героев, давших Одессе воду. В катакомбах тихо, холодно и как-то сурово, что ли? Эта партизанская "баня" и колодец с воском на камнях (от свечей), тёмные коридоры, огни свечек и Родина-мать с лицом старухи скорбящей. Когда подъехали к могилам и Чуприн спросил: "А кто не хочет выходить из автобуса, можно не выходить?" -- я ему ответила: "Не выходить -- подлость".
Шофёр сказал: "Правильно!"
А мне нехорошо от легкомысленного непонимания детей (...)
Да, так поговорим за Одессу.
Улицы тихие, славные; мягкие тона, зелень ещё не сочная, я поняла, за что ты любишь Киев. Есть и в Одессе что-то от Киева. Город с одним лицом. Южный. Каштаны цветут. Ласковый город. Над морем бюст Александра Сергеевича:
"А.С. Пушкину -- граждане Одессы".
Улицы Паустовского, Ильфа и Петрова, В. Инбер.
А одесситов я не разглядела ещё. Нужны ещё дни. Врач, таксист -- люди сдержанные, в приёмном покое появилась немолодая, рыжеволосая, подкрашенная женщина и сказала: "Я приехала с Ближних мельниц", -- ах ты, моё солнышко, с Ближних мельниц -- тут тебе и Родион Жуков, и парус одинокий.
Хочу в тёплую Одессу. Бродить с тобой под каштанами-платанами.
Не сердишься, дружочек?
Зайка, получила 2-е письмо. Выдюжим. 10-го пошлю тебе деньги, а 16- го ещё пришлю. Выкрутимся, заяц с боНбой.
И не беспокойся обо мне.
Мы сёстры, мой сероглазый лесовичок. (...)
Прости и помни меня (...) И Печерск наш весенний, и улицу Маяковского, и собаку на детской площадке. А девчонку помнишь, что нам о собаке рассказывала?
Дитя моё, родная моя (...).
Твоя Вера.
15 мая 79. Полночь. А Германа всё нет!!!
Моя родная, получила сегодня два письма и прелестно-забавно- конспиративную открытку. Карасей вышлю 17-го телеграфом, так что 18-го они будут в Москве. (...) Маленький мой, не думай ни о каких бандеролях с жареными карасями. Всё это суета. Дождёмся сборника и кутнём шикарно, с коньяком и красно-чёрной икрой.
Получила ли ты полтора карася? (Это чтоб квитанцию можно было выбросить).
(...) Смотрела сегодня "Блокаду Ленинграда" (смотришь "Великую Отечественную"?) Ревела, когда показывали исполнение 7-й симфонии для тех, кто её слушал в блокаду, теми, что остались в живых. Страшны эти инструменты, лежащие, стоящие рядом с пустыми стульями. (...)
Моя Танька, спасибо тебе за твою память о Ладоге. Как ты это почувствовала, какая это твоя и общая святая и чистая боль. И всё-таки спасибо тебе за неё.
Записка на Пискарёвском кладбище возле куска хлеба: "Мама, я принесла тебе хлеб, который ты отдавала мне" -- не знаю, может быть, в этом что-то не то? Может быть, нужно молчать и помнить? -- но я над ней ревела и плачу сейчас.
И немцы -- самодовольные убийцы, посылающие подарочки детям, как страшно, -- и к чёрту этот Запад, если о н породил это, -- а наши с винтовками -- святые, чистые лица голодных людей.
Великий город.
(...) Милая моя, ты всё боишься, что я вижу тебя не всю; родная, не думай об этом, хорошая ты девочка, вижу -- и боль, и то, что не любишь ты в себе, -- но так прекрасно и велико то, что люблю я в тебе (...)
Спокойной ночи, мой дружочек.
Твоя Вера.
P.S. Из Леси Украинки: "Я в серцi маю те, що не вмирае."
Татьяна Никологорская
* * *
... О нет, он там не одинок!
От только слышит, слышит, слышит
Последний тоненький звонок
Под нишей и над самой крышей.
Он забытья не выбирал,
Познав всю тяжесть благородства:
Он равнодушие стирал
Своей ладонью, как уродство.
И отпечаталась рука
На измождённом Ленинграде,
На облаках и на веках,
Зажатых нотною тетрадью.
И в репродукторе моём
Опять смятение бушует:
Зачем живём? Куда плывём?
Как душу вырастить большую?
Спасибо, тихий человек...
Осиротелый храм нетленен.
Был человек -- как ранний снег.
Он знал, что мир несовершенен.
Снег стаял. Музыка плыла.
Зал наполнялся поздней болью.
...А где-то Ладога звала
И первой и святой любовью.
1975
(СТИХОТВОРЕНИЕ ОПУБЛИКОВАНО В СБОРНИКЕ "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР", М., "Молодая гвардия", 1981)
Киев. 31 мая - 1 июня 1979 г.
(...) Никогда не изменится наша дружба. Много ли, мало ли выпадет мне жизни -- не знаю. А только ты в моей жизни -- друг единственный.
Заснула после концерта памяти Глинки. Ну и Москва, ну и столица. Ни одного романса не спели, сыграли только увертюру к "Руслану".
Пели и играли:
Бородина,
Чайковского,
Римского-КОРЗИКОВА, (Верина шутка! =Т.Н.=)
Шостаковича,
Прокофьева.
И местами, изредка, Глинку. Тех тоже славно слушать, но за старика 175-летнего немножко обидно. Что уж, он так и не заслужил, чтоб в честь юбилея какое-нибудь там "Чудное мгновенье" вспомнили или "Не искушай...", или что-нибудь ещё (...).
Мне при тебе неудобно говорить о музыке... Потому что твоё восприятие самое святое: восприятие очень музыкального и очень искреннего человека.
(...) Зайка мой, последнее письмо было о том, что 29-го ты едешь в Вятку. Ужасно хочется на север, в Вятку, к эскимосам и ещё дальше.
Противны тётки с коробками конфет.
Люби и помни.
Твоя В.
5 июня 79. Киев
Дорогая моя, моя ласточка, моя зелёная веточка, моё солнышко ясноглазое,
получила сразу три письма, за что человеку столько счастья!
Сердце всё равно сжимается от разлуки, но есть горькая сладость и в ней.
(...) Зайка, кончила страницу, спустилась за письмом, помолилась у ящика -- письмо тут как тут: Малевой Верочке (спасибо, Зайчик) из кировского "Спутника".
Твои изыскания-разыскания -- прелесть, особенно мне понравилась Елгава - Валгава - Волга (не говоря уже о водке и виски -- тут я была в полном восторге).
Маленький мой, маленький, вылитый мой корреспондент, -- жаль, что завод шумит, хотелось бы для тебя тишины в этом щедринском захолустье. В честь Щедрина там что-нибудь есть?
Уралочка ты моя родная, читаю сейчас Лескова; радуюсь талантливости русского народа. Язык какой.
Целую, моя маленькая.
Твоя Вера.
Киев. 8 июня 1979 г.
(...) несколько дней была в тоске. Понимала, что стоит тебе появиться -- выплачусь на твоём плече -- и пройдёт эта боль. 6-го получила письмо. Все твои последние письма были музыкой, а это я ношу с собой в ожидании радости: перечитаю ещё раз медленно.
Я получила его вечером 6-го, когда шла праздновать день рождения А.С. Пришла к Биндерам. (Бедным, любящим музыку, вся квартира из книг и пластинок). На двери была приклеена бумага: "Неприёмный день".
Об этом они меня предупредили, но велели постучать особым образом. Я сказала, что стукну три раза, потому что особым образом не получится.
И всё-таки сначала вдруг быстро застучала. Потом стукнула 3 раза.
Молчание. Написала на бумаге дверной поздравление, упрекнула, что не открыли, и вышла из подъезда. Мне нужно было куда-то идти, ехать, -- иначе расплачусь от одиночества. Тебя рядом не было. К И. я не могла идти в день рождения Пушкина -- слушать разговоры о США -- увольте, надоело! (...)
Позвонила Линке. Линка меня всегда поздравляла в этот день, а нынче -- нет. Её телефон гудел-молчал. Пошла к трамваю: ехать куда угодно. Вдруг -- женщина, которую не видела лет 25. Хорошенькая, старше меня года на два. Уже бабушка -- внучке 5 лет. "А ты всё не замужем? Ты что решила..." -- "Ничего не решила. Жизнь решила" -- "Да, жизнь, она решает так, что ничего не поймёшь. Твой трамвай?" Я сказала, что мой, и уехала к метро и домой. И тут позвонила ты. В Москве ты поняла, что нужно мне скорее позвонить. Говорила с тобой почти при людях.
Боже мой, если мне 40, а я одна, если ты приезжаешь -- и живёшь н е у меня (я пишу это и плачу) (...),-- так вот -- мне ещё стесняться говорить по телефону! Молчать от страха, что что-то скажут или косо взглянут. Господи, какой я раб, как я не умею быть гордой, спокойной, независимой, как я суетна.
Пишу -- и прячу письмо, когда слышу шаги. Сегодня не спрятала -- шагов не услышала. (...) "Всё пишет-пишет!" Причём не ворчливо, слегка насмешливо, может быть, а мне не хочется, чтобы обо мне говорили. Мне хочется спрятаться, уснуть, очутиться в Москве, на Сторожевой, в Каменке, с её желтым, горячим рассветом (...) Родная, не тоскуй так страшно (...). Я жду твоих писем, я не смогла бы уже без твоей дружбы и доверия.
(...) Бог поможет!!! Очень прошу его об этом.
Целую.
Киев. 26 июня 79 г.
(...) Заяц, милый, нужен сценарий. Твардовский. Спаси!!! Потом скажу, зачем.
Твоя В.
Киев. 27 июня 79 г.
(...) Пишу на душной почте, в очередь в московскую кабину ещё не встала. (...) Подожду час, напишу письмо, подумаю о Михайловском. Надела на себя нелепое платье, а рядом на почтамте сидела девушка в блузке из деревенских ситцевых платков. Во мне вдруг мелькнуло сожаление о девичьих годах, ушедших без нарядов, об уходящих женских годах, вдруг захотелось быть нарядной -- бред какой-то! Не буду. Не хватит времени, денег, умения вертеться, доставать и т.д.
Так и помрёт Малева некрасивая и в нелюбимом платье.
Билета у меня всё нет. Нет и нет. (...)
Зайка, ходила сейчас по Киеву с красивой Леонорой3, вернувшейся с Пицунды, ещё с людьми -- милыми людьми, а сердце щемит. Щемит по смешной причине. Среди нас, гуляющих, был мой ученик, сын приятельницы. Леонора его в шутку спросила: "Ну, как Мальва -- учительница -- ничего?" И он ответил: "Конечно, если б В.В. могла справиться с половиной класса или выгнать всех и оставить человек 6, это была бы такая литература." И мне так обидно стало. Справиться -- это не с дисциплиной: тихо у меня всегда. Справиться -- заставить думать, говорить, читать, любить литературу.
И мальчик прав. Не смогла справиться, вот и оценка.
При этом он меня любит и говорит, что за 10 лет я одна из немногих (из 4), кто ему что-то дал. Вот так!
___
3 Киевской журналисткой, женой журналиста Даниленко, Леонорой Терещенко.
(...) Этот же Олег сказал: "Ребята возмущаются тем, что Вы остаётесь в этой школе. Идите работать в городскую". (Речь о школе N 119 Днепровского района. =Т.Н.=) А я, знаешь, наверное, люблю детей вообще, а не только развитых и городских. Интереснее, конечно, с такими, как Элька или Наташа Колыбина, чем с моим ершистым и грубоватым Иванчуком или Иванушкой Довганем. Но они мне почему-то дороги.
Ладно, разгонят и эту школу -- такое уж моё счастье. (...)
Милая, до свиданья.
Твоя В.
(Тогда же. Открытка)
(...) В "ЛГ" сегодня кроют бедную Глушкову за дело и без дела, хвалят Соколова (это приятно), неудачно цитируют Кузнецова -- разве "Атомная сказка" сродни "Пророку"? Мне казалось, что она о другом. А ночью мне снился страшный сон, что я приехала в Волгоград -- и 4 моих спутника умерли. (В 80-х умрут В.Б. Сосинский, брат и сестра Милейко, Лина Ошерова.=Т.Н.=) Это к перемене погоды, говорят. Утром правда -- пасмурно и холодно. (...) Мне и горько сейчас, и обидно, и всё-таки как хорошо, что есть ты (...)
13 (14 июля 79 -- первый час ночи). Пушкинские Горы
(...) веришь не от неведения и незнания жизни, а веруешь, что нашёл единственное, потому что жизнь и обманывала, и дарила счастье, и боль, и муку, и вдруг она, когда ты понял, что жить нечем и будешь тихо доживать до смерти, подарила смысл и наполненность каждому дню.
Почему такое светло-щемящее чувство сейчас?
Где-то ты, мой "вылитый корреспондент" (определение харьковского интеллектуала. =Т.Н.=), где ты в нынешний дождь?
Родная, наверное, я ещё долго не избавлюсь от сомнения: нужны ли тебе эти письма. (...) Мне казалось иногда бедным и слабым то, что говорю я. Прости мне косноязычие и бедность, я кажусь себе сейчас на удивление несложной, мыслей -- шаром покати (не смейся, какая-то блаженная глупость во мне сейчас).
Поставила на стол фотографии Ариадны и Володи, а твоей нет с собой. Её я спрятала в завещанную тебе шкатулку.
Спокойной ночи, родная. Не сердись ни за что на глупую Малеву, хорошо?
Она тебя любит.
В.
P.S. В автобусе моё место было 13, а номер, слава Богу, 314.
23 июля 79.
Псковская область
(...) День разговаривала с тобой, жалела, что не поехала в Псков: три года тому назад умнее была. Надо было ехать. Вот ведь глупость какая. Проводила бы тебя -- было бы спокойнее на душе.
Милая моя, добрая моя, верный мой друг, не горюй.
(...) И тревожно мне: как-то встретила тебя Москва и новая редактриса, и Кинафа -- Каинфа, и голодный Кибкало, и симпатичная Карпенко. (За последних я спокойна).
А вчера меня начала (под гудящий на 4 этаже электромассажёр) мучить совесть. Прости меня (...). Я -- сытая, толстая, безалаберная -- жаловалась т е б е на жизнь.
Что сделать, чтоб ты это забыла?
А я не забуду, хорошо?
Ты знаешь, девочка, мы ведь родные.
Шла мимо старой гостиницы -- вдруг смотрит в окно и смеётся нянечка, что так нас назвала.
Я зашла. Она так тепло о тебе вспомнила, сказала, что попрощаться с тобой не успела: позже на работу пришла.
У неё драма: она ушла от мужа и живёт где придётся: то у матери, то у сына. Разлучницей оказалась Люся. Жалко мне её. И Люсю как-то тоже. Нянечка говорит, что она много пьёт, нигде не работает. Пропащая женственность.
Танюшка, я пишу глупости. Ты прости меня, но я отошлю это письмо.
Родная, не горюй. Не плачь.
Добрая, подруженька, соловушка, русачонок, до свиданья.
Твоя Вера.
Михайловское. 29 июля 79 г.,
дождь и солнце
Здравствуй, малыш,
иду на Савкину горку. Вверху что-то гремит -- то самолёты, то гром, вокруг ходят люди. Говорят о Пушкине. Раньше меня это раздражало, а теперь: пусть говорят о Пушкине, (...), о Вульфах -- всё лучше, чем (дописывать не хочется).
Шла лесной дорогой. Разговорилась с женщиной крепкой, крестьянского вида, с серпом. Её сестру, 20-ти лет, расстреляли немцы. Она была связана с партизанами, с ней вдруг неожиданно подружилась акушерка из здешней больницы. Катя очень доверяла ей, та её и выдала. Семь дней её пытали, хотели узнать, кто ещё связан с партизанами, а потом расстреляли. Акушерка выдала ещё одну девушку, та не выдержала пыток, и арестовали ещё около 20 парней и девушек и сожгли их где-то в овине.
А предательницу (акушерку) после войны судили, дали 15 лет, потом вышла амнистия, она вышла замуж, живёт в Латвии, родила сына, её родители в Пушкинских Горах этого сына растили, а она раз-два в году приезжала из Латвии, разряженная!
"Я бы эту скотину убила", -- сказала я этой Пане, которая рассказывала про сестру. Один из братьев не пережил расстрела (сестры), захворал и через месяц умер, мать после допросов и двух недель тюрьмы умерла, вернувшись домой, -- через день, как муж Пани погиб, а эта стерва живёт, плодится и испытывает огромное са-мо-ува-жение!
В этом я почему-то не сомневаюсь.
(...) Это случай, когда стрелять нужно.. (...) Грустно мне. Как долго нет тебя.
До свидания, моя светлая.
Твоя В.
30 июля 79.
Открытка, п/о Михайловское
(...) Вчера ты соткалась из воздуха по дороге (лесной). Подробности письмом. (...)
1 августа 1979 г., Михайловское
(...) Сегодня мы (это я, Любовь Джалаловна, Ирина Алексеевна Делюсина -- ей посвящён окуджавский "Моцарт", Симеон и один очень красивый, немолодой грузин-москвич) ездили в Дедовцы в гости в Репину (помнишь молодого краснощёкого художника-ленинградца?). Он купил в Дедовцах дом с русской печью.
Его жена -- мадонна Петрова-Водкина: чистое круглое смуглое лицо, тонкий нос; двое круглолицых крепышей; на столе -- парное молоко, черника, варенье малиновое с черникой, от протопленной печи -- тепло, картины -- косьба, луга у Сороти, окна чистые -- во всём покой, свет, добро. (...)
Ирина Делюсина -- женщина лет сорока пяти, доктор математики, человек, вероятно, достаточно состоятельный, -- второй год вижу её в ситцевом платье с какими-то красными цветочками, в какой-то старой кофте, с истрёпанной сумкой -- и она, ей-Богу, мудрая женщина, а ещё и "Моцарт" ей посвящён.
(...) мне стыдно, что ты во многом себе отказываешь, а я что-то вякаю тебе от глупости и усталости. И ты ещё делишься со мной. Ради Бога, прости. (...) В сентябре я смогу помочь тебе -- пусть хозяйка подождёт. Господи, как я виновата перед тобой! (...) (Мы решили вдвоём держать мою запасную квартиру. =Т.Н.=)
Как объяснить тебе, моя родная, что для меня твои стихи?
Я попробую.
Сначала -- ты помнишь -- боялась тебя слушать. Потом обрадовалась, -- услышав, -- что можно не бояться.
Мир твоей поэзии (прости!) показался мне чистым (это слово трудно объяснить), это не скучная чистота рационализма, а светлая -- единства с природой, музыкой; мне показалось, в тебе -- какая-то светлая стихия музыки, -- я не могу всего рассказать. И при этом, когда за стихами я вижу боль не лирического героя, а твою, -- это и моя боль.
(...) Я молчу, чтоб не обидеть тебя. Потому что тебе нужно не моё, а другое, профессиональное понимание.
Я просто непосредственный читатель, видящий в тебе поэта.
До свиданья, моя хорошая. (...)
Твоя В.
5 августа 79 г. Пушкинские Горы
(...) Сестра из Ленинграда, бывшая прежде не самым близким, но добрым другом, написала мне неприятное: "Тебя, видно, заполонили твои друзья. Но помни, что друзья уходят, а родственники остаются. Подожди, мы тебе это ещё припомним." Последнее, надеюсь, шутка, но неприятная шутка. Марина, сама имеющая много друзей, вдруг пишет такие пошлости: уходят -- остаются. (...) мне странно это противопоставление родных и друзей.(...)
А "Камелёк" ваш детям нужен. (Школьный музыкальный кружок. =Т.Н.=) И всегда помни (...) притчу о сеятеле: погибают три зерна из четырёх, но четвёртое попадает на землю добрую и приносит плод сторицею. А знаний твоих, вкуса твоего, любви к музыке --неужели не хватит, чтоб пробудить хоть в нескольких любовь к ней? Ты ведь не даёшь им музыкальное образование, ты пробуждаешь любовь к ней, музыке. (В 70-е годы я вела факультатив на общественных началах в 279 московской школе. =Т.Н.=)
"... он воспитал наш пламень,
поставлен им краеугольный камень,
им чистая лампада возжена".
Вот и всё.
Баринова вспомнила я потому, что опять плоды его просвещения и воспитания вылезают наружу. Спилили просто так его "зэки" прекрасную старую берёзу, другое дерево искололи ножами, Дима-фельдшер в пьяном состоянии швырнул в свою ногу нож, потом двое пьяных пришли к Симеону. Но тут уж выступила Любовь Джалаловна -- и отлично выступила, у Симеона не хватило бы темперамента на такой разнос. (...)
Оказывается, Баринов моё письмо получил. Обсудил он его так: "Чтоб больше этого не было! Иначе вы вылетите из Михайловского!" Боже мой, как легко, оказывается, можно воспитывать.
"А о чём здесь дискутировать?" -- спросила меня Ира. Я, конечно, не ответила ей, что ждала разговора об отношении к женщине, разговора, пробуждающего высокие чувства, а не угрозы: "Вылетите из Михайловского!" (Летом парни из клуба Марка Баринова грубо и ни за что оскорбили человеческое достоинство интеллигентной старой ленинградки. =Т.Н.=) (...) Мы долго говорили (...), и у меня до сих пор чувство неудовлетворённости -- я не убедила девочку в том, что слушать мат, видеть пьяных парней, мириться с их грубостью -- недостойно порядочного человека. Поэтому мне хочется, чтоб она увидела других детей, людей, любящих литературу. (...) сообщишь, когда будет Ксения Некрасова у вас.(...)
_____
Зайка, дождь сейчас стеной. Кажется, что осень за окном. А лес невысокий, пушкиногорский. Когда нас уже не будет, здесь будут могучие сосны (...)
Будем жить, любить, верить, что живём не нынче только... (...) И ты меня помнишь, и это счастье. (...)
До свиданья, моя прекрасная, моя подруженька.
Твоя Вера.
Пушкинские Горы. 6-7 августа 79 г.
(...) Лежит на столе "Огонёк". О Шукшине можно было и сильнее написать, но ничего, я и этого от "Огонька" не ожидала -- уж очень это не и х писатель. Лучшее в этой статье -- цитата из Шукшина. (...).
"Я думал: "Что же жизнь -- комедия или трагедия?" Несколько красиво написалось, но мысль по-серьёзному упёрлась сюда: комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы (...) неуклюжие, тупые актёры, особенно Наполеон со скрещёнными руками и треуголкой. Зря всё-таки мы воскликнули: "Не жалеть надо человека!.." Это тоже -- от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать -- да. Только ведь уважение -- это дело наживное, приходит с культурой. Жалость -- это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать -- самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное -- вся состоит из жалости. Она любит своё дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра -- много всякого, но неизменно, всю жизнь -- жалеет. Тут Природа распорядилась за нас".
А дальше о том, что жалеть надо каждого, потому что "перед каждым в какой-то момент встаёт вечный, непраздный и невесёлый вопрос: для чего же она, вся эта, моя и наша, жизнь?".
(...) этот невесёлый вопрос сейчас и передо мной (...).
Нет, мой друг, прекрасный, умный, человечный мой друг, всё понимаю: и как Россия велика (что бы там ни было), и как я русскую литературу люблю, и русскую речь, и русских стариков, и стариков евреев, и как от многого болит душа, и как прекрасна, велика, единственна наша дружба, -- всё это жизнь. И вдруг страшный вопрос: зачем жить? (...)
Знаю, чем можно меня утешить, но меня не утешает это, да и немного я значу. (...)
Сейчас утро, а по утрам мне почему-то всегда лучше. Не бойся за меня, девочка.
Вот уже и семь. Простишь ли ты меня. То есть т ы простишь. А есть ужасная эта штука совесть. И думаешь: как мог обидеть, не почувствовать боли, не обнять, когда человеку плохо было.
(...) Я билет не заказываю, жду тебя. Купим с тобой в Пскове два билета и уедем. Твоя Вера.
7 августа 79. Пушкинские Горы
(...) Расстались мы давным-давно, вчера вдруг вспомнила, как появился мой сероглазый Заяц и начал меня воспитывать и распекать.
И так распекал, и так воспитывал, что Малева от счастья начала плакать и рыдать,
а Заяц, в оранжевой рубашке и с БОНбой на боку, стоял и говорил, -- потому что глаза у Зайца -- святые, как у Салтыкова-Щедрина, а несправедливости он не терпит, как Марфа Борецкая...
Потом Заяц сжалился и съел тарелку щей. От щей он слегка подобрел, стал понимать, что у людей бывают слабости --- и никуда от этого не денешься, а у Малевой слабости глупые (...).
Родная ты моя,
продолжаю вечером. Танечка, прости легкомысленный тон утреннего письма. Я много плакала над твоими письмами об Онегине, но возражать не хочу. Наверное, у меня нет силы убеждения. (...) Я не думаю, что покорность в верности. Покорность -- в подчинении условностям и в том, что отдаёшь себя нелюбимому. (...) Я верю, что она пойдёт на каторгу и в ссылку, будет верна, будет страдать и молчать, но пока: богата и знатна, "нас ласкает двор", модный дом. Трудно это -- не любя, но трудней одиночество, а иные любящие обрекали себя на него -- Анна Вульф -- какой вопль любви в её письмах к А.С. Страшней ненависть и презрение окружающих. (...) Ты не изменила бы ни в какую эпоху -- ни в ту, ни в эту, я почему-то в этом уверена.
Ты просто не отдала бы себя без любви.
В этом я тоже уверена. Хоть иногда мне так хочется, чтоб был умный, добрый, интеллигентный человек, который любил бы тебя и был бы мил тебе.
NB: (ЗДЕСЬ ДЛИТСЯ НАШ НЕСКОНЧАЕМЫЙ С В.В.М. СПОР О "ПРЕГРЕШЕНИИ" ПУШКИНСКОЙ ГЕРОИНИ И ЗНАЧИМОСТИ ОНЕГИНСКОЙ ЗАПОЗДАЛОЙ СТРАСТИ. Малева упорно путает категории:
семья,
любовь,
страсть,
наивно "реабилитируя" Онегина.
СПОР НИЧЕМ НЕ ОКОНЧИТСЯ. Я НЕ РАЗДЕЛЮ "АНТОКОЛЬСКОЙ" ПОЗИЦИИ СВОЕЙ ПОДРУГИ И БУДУ НАСТАИВАТЬ НА "ДЕКАБРИЗМЕ" ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ, ПРАВОСЛАВНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ, ЕЁ ВСПОИВШЕМ, ПЫТАЯСЬ НАПОМНИТЬ СВОЕЙ ОППОНЕНТКЕ ТАКЖЕ И О ПОЛНЕЙШЕЙ КАТАСТРОФЕ ОДИНОЧЕСТВА В СУДЬБЕ ЖЕНЩИНЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА -- ЖЕНЩИНЫ НЕСОЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, НЕЭМАНСИПИРОВАННОЙ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМОЙ ОТ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СЕМЬИ...=Т.Н.=)
Я придумываю твою жизнь тогда, твой роман, твоего ребёнка. Я стараюсь в этом романе освободить тебя от тягот домашней женской работы, придумываю комнату-библиотеку, много-много книг.
А ребёнка я не вижу пока, но знаю, что он есть.
Прости мне этот бред.
_____
Да, помню: "привыкнув, разлюблю тотчас", но это прежний опыт говорит, а любовь к Татьяне -- это л ю б о в ь, с письмами, страданием, мечтами -- можно ли упрекать его? Ты и не упрекаешь, упрекает она, подозревая в тщеславии.
Я не хочу его защищать. Но почему все думают, что он склонял её на адюльтер или побег? Он писал о любви, любил, чем бы кончилось всё, если бы она ответила на любовь, -- не знаю.
(ЕЩЁ ОДНА ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА "ЛОГИЧЕСКОГО ДОВОДА" МОЕГО ОППОНЕНТА. =Т.Н.=)
Анна Каренина не захотела семьи с Вронским, хотела бесконечного н а ч а л а любви, расплатилась жизнью -- за что же судить? "Не нам судить, графиня", -- говорит сухой и добродетельный Кознышев. Судит её Вересаев, судит справедливо, видя, в ч ё м повинны Анна и Вронский, чем "загрязнили" свою любовь. Но н е судит за то, что она отказалась быть женой Ал. Алекс., не любя его. (...) Я "работала" над Богатом (...).
Предпочитаю историю Анны Карениной, жены А.К. Толстого и т.д. (ВОЗЛЮБЛЕННОЙ АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА, ТОЖЕ СОФЬЕ И ТОЖЕ АНДРЕЕВНЕ, БЫЛ ПОСВЯЩЁН ЕГО ШЕДЕВР "СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА", СТАВШИЙ РОМАНСОМ ЧАЙКОВСКОГО.=Т.Н.=)
Очень разная эта русская женщина. Хорошо, что она любила -- мучительно, с угрызениями совести, глубоко, бескорыстно.
Думаю, что вступление в брак налагает обязанности, ответственность, но во имя единственной в жизни любви -- у Анны она была единственной (...) А то, в чём она виновата, -- так я виновата в тысячу раз больше, -- как я посмею судить.
Я не дала появиться жизни (...)
(...) я просматривала людей! Нет, не любимых. Друзей. Любящих (евангельски). (...) Благо тому, кому, как Петрарке, досталась вечная любовь к мадонне Лауре, благо. (...)
(...) не хватило меня на настоящую борьбу с жизнью и судьбой.
И на лишения.
Прости, Зайчик. Будь здоров, мой маленький. (...)
Твоя Вера.
(В письме об "Онегине" и "Карениной" -- следы нервного возбуждения, хаос. =Т.Н.=)
Татьяна Никологорская
* * *
Я не хочу, чтоб люди пропадали.
Храню мечту, чтоб им дорогу дали.
Чтоб не исчезли ни стихи, ни письма,
Ни судьбы, ни отчаянные мысли...
29 апреля 2007 г.
Телеграмма ученику. Осень 1979 года
ОЧЕРЕТЯНОМУ ВАСИЛИЮ
НИКОЛАЕВОЙ КСЕНИИ
ПРЕЛЕСТНОЙ КСЕНИИ МИЛОМУ ВАСЕ СЧАСТЛИВОГО СЕМЕЙНОГО И ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА
ВАСЯ НЕ КОТ В МЕШКЕ
Поздравления родителям
ЦЕЛУЮ ВЕРА ВЕНИАМИНОВНА
Киев, ночь на 21 сентября 79 г.
Ласточка моя,
сейчас "Маяк" передавал Прокофьева для тех, кто спит (половина первого ночи), а у меня мысли светлые о тебе, о нас, о доме на Сторожевой (...).
И о детях так хорошо ты пишешь, и как мне не приходило в голову, что ты всего 3 года работаешь -- Боже мой! -- ведь это совсем немного, мой сероглазый, и знаешь, когда я вспоминаю тебя с этими интеллектуалами весёлыми из 2 класса, мне хорошо на душе, и я думаю, что ты выбрала (может быть, под влиянием Надежды Васильевны) единственно правильный способ общения с ними: не напихивание знаний и навыков, а предоставление возможности свободно проявлять себя, а заодно, легко, на свободе, -- узнавать. Если ты займёшься с ними музыкой, я буду только завидовать им, мой друг.
А Галкину я очень помню. А как Шмурачка, явилась?
Зайка мой, дети влезают в душу, в жизнь -- ничего я этим не поделаешь.
Маленький, не сердись на меня, что мало пишу, хорошо? Я, ей-Богу, стану лучше!.
Целую. Твоя В. (...)
28-29 сентября 1979 г.
(...) Раз в месяц полагается классное собрание (...) Мы сделали это классное за самоваром. Уставили столы вдоль стен, уселись лицом друг к другу и пили чай. И говорили просто так. Тема была, конечно, о дружбе, она когда-то очень в начале сентября их взволновала. И славно они высказывались. Но по поводу чая директор сказал, что это не похоже на собрание. А я его имела в виду -- и теперь всё время буду пить чай, кроме торжественных случаев.
Принесли вчера девчонки гороскоп и сонник. В гороскопе обо мне написано, что у меня душа пирата, путешественника, моряка, авантюриста. Наверное, так и есть. Тянет меня на вольные просторы из этих стен. Рамки надоели, бумаги надоели, а всё-таки я не авантюрист, слабо мне уехать в глушь, в Саратов, в деревню (...) Но с детьми моими мне совсем не плохо, и попробую с ними сделать вечер сначала с Петраркой, а потом уж посмотрим -- какой.
Зайка мой, если б оставляли в работе только работу! Как бы было хорошо!
По-настоящему работать хочется. Чтоб если суета, то нужная детям, приносящая им радость, а не так, лишь бы.
У меня есть близнецы, мама их родила, не бывши замужем, и умница, простая, добрая женщина вырастила славных ребят. Один из них -- Олег -- подготовил экскурсию по Лавре. Мне было интересно на него смотреть: невозмутимость взрослого экскурсовода; девчонок поразила его память, а вообще: надо воспитывать людей просто, без криков об идейно-политич. уровне мЭроприятий. Просто ходить в лес, находить ежа, как Сима Соловейчик рассказывает, устраивать какие-то немудряще-немудрёные праздники -- и всерьёз учить литературе. (...)
Завтра -- 30 -- Вера, Надежда, Любовь. Солнце светит, тепло, а помнишь: два года подряд ты приезжала ко мне 23 сентября, и как славно и хорошо -- помнишь первую встречу на перроне, мой дружочек в красной кепочке?
И как листья жгли в саду;
где ты, дитя моё светлое, жизнь моя, душа моя, чудо моё (...), откликнись: три (два!) дня нет писем. (...) Будь здорова, моя добрая девочка.
Твоя В.М.
Киев. 6-7 октября 1979 г.
(...) Мне больно вдруг стало -- прочитала "Вам и не снилось". Эта история Романа и Юлии (не случайный намёк), любви 9-10-классников, кончившейся трагически из-за подлости и лицемерия взрослых, напоминает ту, что рассказала ты мне (...), и ту, что творится сейчас с Элькой.
И как все эти ханжи говорят и думают одинаково! И мальчик прыгает из окна, не желая умереть, а думая, что 3-ий этаж пустяк и что он уедет в Москву к любимой. И падает на водопроводную трубу грудью. И я плакала. Слишком это страшно и правда: и обзывание девками и сучками любящих, и рационализм и пошлость взрослых. (...) Мне хочется бить родителей Жени (Лининого любимого), мне хочется говорить гадости И., мне хочется защитить Линку. Спаси её Господь.
Сегодня день шумный и глупый. И вот в конце -- тревога: как ты там, мой дружок? Лишь бы тебе хорошо было, не встретились бы тебе снобы и пошляки.
Девочка, я молюсь за тебя.
8 октября
Родная, получила твоё письмо. Когда читаю вначале -- Ластонька, -- понимаю, что должна летать и быть достойной тебя. (...) Только не думай ты ничего, мой дорогой, единственный мой друг. Я никак не могу втолковать тебе, несмышлёныш, что есть в тебе то, что не закроют никакие мои-твои-наши срывы. У Леси Украинки (лесная русалка) говорит: "Я в серцi маю те, що не вмирае." Ведь и ты (...), и я -- имеем в сердце то, что не умирает.
Целую, люблю. Вера.
Киев. 14 октября 79 г.
(...) Ты умница, такая моя умница, читала твоё "Покамест молод" и думала, сколько в этом ума, доброты, умения видеть и ценить людей.
И трогательная эта Галя о Шекспире -- ведь это прелесть -- и вся она, эта девочка, в этом замечании в скобках! Я даже внешность её представила и доверительный тон, каким она тебя насчёт Шекспира просвещала.
И хорошо ты пишешь о людях села -- так хорошо (...) -- уважительно, с пониманием их психологии, их отношения к людям. Дай Бог (...), чтоб то, что ты написала и Стриганов написал, повлияло на жизнь (в смысле этих самых КПУ). И пусть меня пошлют в Шацк преподавать русскую литературу. (...) И будешь ко мне в командировки ездить. И поможем девушке Гале приобщить земляков Сергея Александровича к поэзии. А то ведь и правда -- о б и Н Н о, доса Н Н о, чёрт знает что такое!
Родная моя,
сегодня утром проснулась и говорила с тобой. Слава Богу, воскресенье, можно на тебя взглянуть, тихо поговорить о том, как нужны мы друг другу (...)
Были "Отцы и дети", глава о любви Павла Петровича Кирсанова. И я спросила, согласны ли они с мнением Базарова о человеке, поставившем жизнь на карту женской любви. В 9 "А" -- не моём -- большинство не согласилось. И меня это обрадовало. Пусть лучше думают, что любовь -- это вся жизнь, чем заранее рассуждают -- можно, нельзя. А вот мои выступили в защиту Базарова, и я попросила их высказаться, почему. Лошкарёв сказал, что человеку необходимо постоянное состояние любви, но вот при этом можно быть Шопеном. А Курилов сказал, что он против Базарова, потому что человеку нужно, чтоб он любил и его любили. (...)
Выводов я не делала, итогов не подводила, пусть себе любят, только не убиваются.
С родителями хотела поговорить, чтоб они были осторожней с детьми, но родителей пришло совсем мало (...).
На улице осень, светлая осень, я смотрю на деревья и молюсь, чтоб они до твоего приезда оставались такими, как сейчас.
(...) а следующая неделя -- Пушкинская (19 октября), и надо делать газету, чтения, -- это всё хорошо, но уже устала я -- и надо бы выбежать в осенний лес.
Родная, до свиданья. Напиши, на какой день тебе билет купить в Москву.
Целую тебя В.
21 октября 79 г. Киев
Здравствуй, моя голубушка,
получила 3 письма; одно из Тюмени и 2 из Нефтеюганска..
Итак, будущие биографы Зайца восстанавливают его жизнь по сохранившимся письмам: Заяц в шшыккарном капюшоне явился в Тюмень, с книжкой, портфелем и воспоминаниями о курином крылышке. На душе у Зайца было муторно. Запах крылышка пробуждал воспоминания о кафе "Прага", тихих консерваторских переулках, интеллигентных бабушках и листопаде. В Москве шуршала листва, в магазинах продавали кагор и сыр рокфор, суп из пакета мирно покрывался сырной плёнкой, чайник Антон тихо бормотал стихи.
А здесь...
Воспоминания и некоей М.? (...)
но
следовало ли помнить о ней на краю света, среди лёгкой заметели, рядом со спутником, пьющим коньяк на накрахмаленной скатерти и любящим В. Маяковского больше, чем Ал. Сергеевича.
И Заяц, верный в дружбе, преданный, умный Заяц перестал спать по ночам, потому что любил Александра Сергеевича больше Маяковского и резонно считал, что наступать на горло собственной песне нельзя, и утрату хотя бы капли человечности нельзя оправдывать необходимостью (...).
Впрочем, эпоха была так сложна, что включила в себя святого Швейцера и дикого варвара Гитлера, и Заяц, стоящий над ограниченностью партий и профсоюзов, производственных совещаний и главных редакторов из Вы Цы Эс Пы Эс, мучился, искал, выворачивал себя наизнанку, т.е. делал всё, что полагалось делать русскому интеллигенту хотя бы даже в XX веке.
За стеной храпел абхазский режиссёр (биографы перепутали Нефтеюганск с Тюменью, потом из-за этого были созданы поисковые клубы, совершено несколько творческих поездок биографов, работавших в Москве, Киеве, Каменке и Пскове, и истина, наконец, была установлена. Было установлено название кинокартины, а также защищена диссертация "Эпистолярное наследие Т. Никологорской как энциклопедия русская жизни последней трети XX столетия". Стихотворение, написанное в тюменской гостинице, было выцарапано на берестяной грамоте и продавалось как сувенир москвичам, посещающим далёкий неизвестный край.)
Зайка, зайка, эти биографы никогда не узнают, как помнили и любили эту Татьяну в Киеве, как вздрагивало сердце, когда думала о ней: летит сейчас? хорошо ей? обидели её?
Родная моя, сегодня передавали "Прошу слова". Смотрела. Фильм не так уж и прост. Карикатура эта Уварова, рыдающая при известии о смерти Альенде и приходящая на работу в день похорон сына?
Но Шукшин, нервничающий, доказывающий, что не может переделать ни строчки (...), Шукшин -- это всегда правда. Как это трудно -- никогда не солгать. (...) Пиши и помни. (...) Вера.
20-е числа октября 79.
Доченька моя!
Вдруг к сердцу подкатило именно это слово, это чувство -- доченька. Вдруг больно мне стало: как я смею смеяться, шутить, спорить, когда тебе, родному человеку, ребёнку, вдруг плохо. Маленькая моя, добрая моя, не сердись на меня, помни, как сильно, грустно, как навсегда я люблю тебя.
Твоя В.
27.10.79.
Малыш, получила удивительное письмо,
добрый мой, хороший мой, постараюсь сегодня ответить.
Глупенький, ты мой самый мудрый дружочек на свете и такой трогательный и любимый, что горячо на сердце и реветь хочется.
Твоя В.
27.10.79.
Родная моя, сегодня утром уйдут письмо и открытка, я была так забита, что неделю почти не писала, прости, мой дружочек. Мне кажется, что все добрые слова придумала для меня ты, родная душа, чудо моё глазастое.
Письмо о мамах дворцовых получила. Горько мне было, но тут, видно, яблочко от яблоньки. Напишу. В.
Ноябрь 1979.
Родная моя Танюша, снег у нас идёт. Тополя ещё были зеленые, молодые берёзки облетели, и вдруг обильный снегопад, снег так и валит, белый, звёздами, хлопьями, то вдруг с ветром, грустно-то как. Думалось ещё о светлой осени и о кострах, дыме, запахе сожжённой листвы. Ведь ноябрь -- листопад. И вдруг снег. (...)
Ноябрь (?) 1979.
Милая моя,
забыла тебе написать, как шла в Косохново и обратно -- и видела тебя, глупыша сероглазого в плаще, собирающего цветы. Вот до сих пор вижу тебя ясно.
6.11.79.
Здравствуй, моя родная,
неужели ты послезавтра будешь в Киеве. Сегодня так славно и светло, что мне хочется плакать, что в этот день тебя нет рядом.
Мы побродили бы по улицам и отправились бы во Владимирский, чтоб нас благословил митрополит со светлым лицом.
Что-то трогательное и светлое в этом благословении, в этом снеге, что- то томительно несправедливое в том, что не видишь ты его сейчас.
На глубоком снегу зелёные и желтые листья. Почему так тревожат меня эти зелёные листья на деревьях, так долго они держатся под снегом, есть ещё почти не облетевшие тополя, я всё время говорила им: держитесь. Милые, будьте зелены, не поддавайтесь, мне страшно будет увидеть вас голыми.
И вот они лежат на снегу -- зелёные-жёлтые.
Родная, ты будешь послезавтра.
Неужели я увижу тебя, твой носик покрасневший, твои глубокие- глубокие глаза. Увижу. И ужасно хочу с тобой в Ричардский замок и в Кирилловскую церковь. И в филармонию. Ведь я Киев полюбила из-за тебя, только из-за моего славного кутёночка.
Танька, Танька, только ты не сердись на меня, ладно?
Танюша, Танечка, Таня, Татьяна, ребёнок мой сероглазенький, добрый и чистый.
Ты думаешь, всегда думаешь, что я переоцениваю тебя. Ерунда всё это. Ничего не переоцениваю. Ты для меня всегда будешь чудом. Я сказала о тебе -- чудо, как только увидела тебя. Так ты и осталась для меня чудом из чудес, живым, тёплым, чистым, а главное -- человеком, способным чувствовать так глубоко и сильно, что я не могла уже поверить, что встречу такого человека.
Я вспоминаю о всех своих несправедливостях по отношению к тебе, (...) и мне вдруг страшно стало; нет, напрасно мне стало страшно -- ты во всём мне поверишь, ведь правда?
Душенька моя (...), часто потом я вспоминаю, как ты была права и как я глупа, что вдруг начинаю плакать, спорить, я поняла даже, отчего это.
Но ведь ты всё такой же друг мне (...), как в Пскове, когда мы прощались? Мой дорогой человек, мой славный, умный, добрый, мой замечательный друг.
Ты знаешь, моё светлое солнышко, мой дорогой дружочек, я всегда старалась представить себе все "вдруг". А вдруг не увидимся, а вдруг! А сегодня (...) вдруг празднично: приедешь, приедешь, приедешь! (...)
Мне хочется говорить с тобой о разных глупостях, молоть "чепушинку", как ты, мой сероглазенький Заяц, говоришь, написать музыку (...)
Добрый мой, хороший мой, славный мой друг, хорошего тебе вечера (...)
Твоя Верка.
13.11.79. Киев
Родная моя,
глупая Малева забыть тебя не может.
Странно это и глупо; ну, уехал серый Заяц, глазами посверкал, покашлял, посопел и уехал -- что особенного,
а вот забыть и успокоиться нельзя.
Можно ли быть роднее? Не знаю. Думаю, что нельзя. Спасибо Богу (или кому?), пославшему нам это дивное родство, это счастье.
Малыш, я не хотела плакать, когда ты уезжала, а слёзы сами льются. Это не только от прощания с праздником души и сердца, это от прощания с тем, что должно быть жизнью.
Мы не привыкнем к жизни никогда?
Мы и не привыкли бы.
Родная, на сердце тепло, грустно, счастливо.
Спасибо. За что -- надо написать целый том и описать тебя -- и это невозможно, и я понимаю, почему писали музыку -- от бесконечности чувств и невозможности сказать словом.
Я вижу твои глаза -- и волна нежности захлёстывает, и молиться хочется.
Младенец мой со святыми глазами! (Строчка из раннего стихотворения моего. =Т.Н.=)
Родная, ты сейчас ещё в поезде. Будь счастлив? Нет, этого я хочу, но это как-то бедно звучит -- будь счастлив -- я хочу к тебе прилететь, вернуть тебя на день, на час, взглянуть на тебя.
В.
15.11.79.
(...) Я и в мелочах помню, что я твой ребёнок. И по-глупому, по-детски думаю, что ты была бы мной довольна. Милая моя, родная, обещаю быть умнее и слушаться тебя. Ты очень много внесла в мою жизнь. В ней, в этой жизни, появился смысл, такой, которого я уже не ждала. Вернее -- сознание того, что нужно жить, работать, любить, верить, что нужен ты, если не России, то нескольким людям, а если не нескольким, то хотя бы одному, но этот один -- родня тебе, и вершина (не сердись, не бранись, помни!) Малыш, не сердись на меня, будь здоров, не волнуйся за меня (...) бью хвостом.
Твоя В.М.
22.11.79 г. Киев
(...) самые лучшие письма я тебе говорю.
Говорю в тёмной комнате с тобой, когда тебя можно вслух позвать (...) И так я вижу тебя, что вдруг возвращается "Россия". Ты в белом, боль того ещё расставанья.
Родная моя, наше родство навсегда.
Нашла твои стихи, перечитывала вчера, светлый это родник, незамутнённый ни ложью, ни приспособляемостью к жизни, -- светлая, добрая, чистая жизнь. (...) вчера я вдруг почувствовала тебя морем, в которое я нырнула и исцелилась, а мне больно, что ты вдруг увидишь меня глупее, чем я есть.
Я могу при тебе фальшиво петь, я могу при тебе быть вполне тем, кто я есть, без дипломатии, увёртливости, фальши, игры, и всё-таки! Мне хочется быть достойной тебя. (...)
Показывали Кабалевского на уроке. Я вспомнила тебя, и как он с тобой поздоровался.
Что можно сказать Глотову (это он возмущался, что К. не пускает на уроки?)?
Зачем ему зрители, шум вокруг его уроков? Достался детям добрый, прекрасный, чистый волшебник -- вру! -- человек; он им играет "Лунную", включает Пита Сигера и поёт с ними "Мы хотим свободы", расспрашивает, как им больше хочется петь -- "Не бойтесь, что ваше мнение не совпадает с мнением соседа" -- с записью или без неё; можно, наверное, подготовить какой угодно урок, методически правильный, насыщенный и т.д. и т.п., но -- сколько бы меня ни убеждали, главное -- учитель Кабалевский, весь он, всё в нём: и как смотрит, и как ищет ноты, и говорит -- и весь он, с петербургским всё ещё произношением, головой-огурцом, дон-Кихотской фигурой, ну, конечно, его утверждение доброты и настоящей музыки (...), а главное -- он и дети -- за это кланяться ему хочется и любить его всю жизнь (...)
Твоя В.
Ноябрь 1979.
Родной, маленький, умный, добрый ребёнок!
Вчера и плакала и смеялась над твоей посылкой, просила зайти тебя в комнату, уговаривала подойти ко мне и посидеть рядом.
Родная, родная моя, уж и не знаю, какая это степень родства, что всегда мой спутник, друг, собеседник -- всегда т ы .
Я вышлю что-нибудь (...) -- и тогда ты тоже не сердись, ладно?
Мне всё впору, мой рыжий; а рассчитываться с Людмилой мы должны вдвоём (ведро-то вдвоём не вынесли?)
И не сердись на меня. Я не должна была говорить об этом, и так ведь тепло на душе от твоей записки -- да, ведь я себя и м и чувствую: твоим глупым ребёнком.
Маленькая, добрая, милая, светлая моя, не сердись, когда пишу мало и плохо. Засяду сегодня и напишу длинное-предпинное, жаль, не могу сказать умное-преумное письмо.
Вчера передавали урок Кабалевского в школе. Я его люблю, дон Кихота, ребёнка, солнышко. Ты смотрела?
Спасибо. Целую. Твоя В.
P.S. Танюша, это письмо я нашла. Оно одно из первых после твоего отъезда. А может, ещё раньше, и я жалкий склеротик? Прости!
В.
Киев. 27.11.79.
Здравствуй, моя родная девочка,
влезла в Даля:
"Мораль (...) наравоученье, нравственное ученье, правила для воли, совести человека. Моральныя истины, нравственныя."
"Нравственный, противопол. телесному, плотскому; духовный, душевный.
Нравственный быт человека важнее быта вещественаго (у него, у Даля, везде одно "н".) -- Относящийся к одной половине духовного быта, противопол. умственному, но составляющий общее с ним духовное начало, к умственному относится истина и ложь, к нравственному добро и зло. = Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честнаго и чистаго сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой, безугарной нравственности. (Выделено Далем.) Всякое самоотверженье есть поступок нравственный, доброй нравственности, доблести.
Христiанская въра заключает в себе правила самой высокой нравствеНости. НравствеНость въры нашей выше нравствеНости гражданской: первая требуеть только строгАго исполнения законовъ, вторая же ставить судьёю совъсть и Бога" (!!)
Родная моя, я прочитала это и побоялась, что если я напишу, это выйдет ересь. Мораль -- правила, предписанные обществом?
Нравственность -- свойственный человеку строй духовных ценностей (вру, что-то здесь не то).
Вчера на партсобрании наш парторг читал проект решения, в котором призывал бороться с безнравственным поведением учеников. Историк сказал: "Лучше с аморальным." -- "Что Вы, что Вы, аморальное -- это знаете что !!!"
Общественная мораль преследует пьянство. Можно пить и быть Федей Протасовым -- глубоко нравственным человеком. И можно при этом инсценировать самоубийство, т.е. опять нарушить законы -- и понимать, как низок судья, защищающий их.
А впрочем, я не могу, не умею, не смею высказываться всерьёз. Зайка, я жуткий тугодум, а это пишу тебе в шесть утра, перед политинформацией. (Нет, нет, не ною! Не сердись на меня).
П а н директор устроил месячник литературы, и тема сегодня "Журнал "Юность" о твоих сверстниках" -- сама понимаешь, что это Роман и Юлия. Девочка, которая готовит информацию, вчера приходила за консультацией и сказала, что не спала до 3-х ночи и плакала.
В понедельник у меня был КВН в 7 классе, вчера, во вторник -- газета (в четверг конкурс), консультации по "Р 78" (повесть из "Юности") и о Романе и Юлии, партсобрание, где пришлось выступить в защиту молодой математички, а директор начал слегка меня обличать, но кончил реверансом, ах, какой я учитель. (...)
А я тебя люблю. (...) Хочу видеть и слышать. И нос поцеловать.
Целую, глупыш сероглазый, мой самый умненький.
Верка.
Конец ноября 1979. Киев
(Открытка)
Родной глазастенький!
Получила письмо, такое письмо. И две чудных открытки!
У самой морда чудная! Родная моя! Больно и хорошо: о жизни, которую не проживём, но думаю, что и та, которую живём в письмах, встречах, -- наша, полная (нет неправда), прекрасная (правда); спасибо за неё. Хорошо, что она случилась. Хорошо, что ты в 1976 году приехала в Михайловское.
Спасибо. В.
7.12.79. Киев
Родной мой, нежный и заботливый друг!
Ты одела меня с ног до головы, как когда-то шутя грозилась.
Глупенький мой, остановись.
Тебе-то что остаётся, мой родной ребёнок?
Туфли твои хороши: мягкие, свободные, мои ноги уже давно себя так не чувствовали, как в них.
Вчера был не день, а блаженство: ничто не жмёт, мозоли не болят (прости такую прозу -- простишь?)
Утром открыла Есенина -- декларацию имажинистов: мы не за новый быт, мы за новое мироощущение.
У Ольги Форш (...) о публике, собравшейся на вечер памяти после смерти: они садисты, не они платили за эти стихи жизнью. (...) Все, т.е. многие виноваты в том, что он таким представлен потомству: валенка, гармошка, кудри, женщины, королевич-Лазаревич, а на самом деле -- какой человек, какое чутьё, у м какой! (...) Наверное, правда, что современники слепы и приговор (не приговор, а суждение) их скор и неправ.
Нам в школе и не говорили, что был Есенин, знали мы только стих "Вы ушли, как говорится, в мир иной", -- а теперь я думаю: как это можно было, зачем?
(...) Многое нужно переменить. Но как? Пока и людей-учителей, и средств на это нет, но знать надо, всё равно надо, другая должна быть оценка работы: по её духовности и душевности. (...)
Несомненно, ты художник, люди у тебя выходят, дети выходят. Раздумья. Будет твоя проза -- сама выльется, торопиться не надо. (...) Никак не могла отвязаться от образа сероглазого Зайца. А лето моё связано не с Гейченко и К®, а с тобой. (...)
В.
15.12.79. Киев
(...) Откуда такие берутся? Такие чистые, добрые, светлые, всё понимающие, такие мои родные Таньки?
Ты мой друг, подруженька моя родная, ты всё и всегда понимаешь. (...) в тебе столько прощения и добра, столько непамятливости зла, ты щедрый мой, добрый дружок, русачок мой родной.
Зайка, прости меня. Мне долго и за многое нужно просить прощения, хотя я понимаю, что наша дружба -- это счастье, доставшееся нам.
(...) По мне есть человек-поэт -- Окуджава, есть человек не поэт -- Вознесенский (хоть он и талантлив, и поэт, но не поэтичен по сути своей человеческой),
О Евтушенке не говорю -- уж очень трудно считать то, что он пишет сейчас, стихами, поэзией. (...)
Кузнецов (Юрий. =Т.Н.=) -- человек-поэт, -- хоть и суров и иногда страшен мне, но он поэт, это несомненно, он выше мира только мысли -- мира, где разлагают всё на составные -- и мира, где чётко знают, что морально, что аморально, -- нельзя втискивать поэта в то, что выработали обыватели (в хорошем смысле) в течение веков той жизни, что они живут не в пещерах, а в городах.
Кузнецов мне кажется интересным, необычным, суровым и -- он любит Есенина, когда все читали любимое, он читал "Сорокоуст" -- когда он плачет над "ледей" Макбет -- что в нём говорит -- доброта надчеловеческая? Богоборчество? -- плевал я на заповеди! -- плачу над руками убившими, она их отмыть хотела от крови?
Нельзя судить человека-поэта (даже если он стихов не пишет) с точки зрения заповедей.
"Поэзия выше нравственности" (Пушкин! =Т.Н.=) -- она ещё выше, ещё нравственней, ещё больше видит, прощает и любит -- есть взгляд закона, воплотившего общественную мораль, и взгляд Достоевского, Кузмина, Толстого, Есенина.
Закон -- 9 лет каторги Раскольникову.
Достоевский -- встреча с Мармеладовым и Соней, и падшей девочкой, и весь мир его муки: от избитой лошади, от мук человеческих.
Я запуталась, дружок.
Наверное, это уже о другом. (...)
Сегодня кончила в одном десятом Есенина. Тихо. Маяковского читать не хотят. Девушки говорят, что душевности (!) в нём нет. Что делать? Удастся ли не убедить, конечно, что душевность есть, а повернуть к Вл. Вл. Не знаю...
Маленький, зайчик мой, над моей головой разражается очередная проверка. Боюсь я, что она -- чтоб напакостить пану директору. Он хоть и не ахти как умён, но с ним можно ездить к тебе. Бог знает, что будет, если его уберут. (...)
Глупыша моя родная, прости меня за всё, в чём я оказалась нечуткой, хорошо? Буду об этом всегда думать и думаю сейчас. Прости. Твоя В.М.
Киев. 16.12.79 г.
(...) а я работаю, а я куски сердца выплёвываю, а я люблю детей по- настоящему и сердечно, а мне обидно и больно бывает из-за них, и я работаю, работаю, работаю (...). И мне хотелось сказать: рассмотри, во мне нет того, что есть в Инне, но есть то, что есть во мне, во мне любовь и боль за детей и внимание ко всякому их чувству -- и это, жизнь, мысли, наверное, моё (...).
17.12.79. Киев
(Открытка)
Моя маленькая,
была сегодня в кассе -- ещё рано, даже самая предварительная продаёт билеты на 27.
Родная, увидимся. Опять боюсь сглазу, чёрных кошек, плохих снов, но! Напишу подробно, Заинька, не сердись.
(...) Вера.
1 января (?) 1980 г. Киев
(Открытка)
(...) с Новым годом, родной мой, светлый человек.
Глупыш мой, будем счастливы, выпьем за это какую-нибудь Шемаху или Чумай (кагор. =Т.Н.=), послушаем музыку, какую-нибудь светлую (...)
Киев. 12 - начало 13 января 1980 г.
(...) в двенадцатом часу ночи вдруг растаял, сполз ком грусти. Где-то ещё покалывает сердце эта вдруг так по-хозяйски вошедшая в меня грусть. (...) Сегодня в троллейбусе ехала, говорила с тобой, вспоминала юность. Господи, почему не понимала я тогда прелести её?
Вдруг -- я тебе рассказывала -- и опять вспомнилось -- люди в рабочей одежде, и один рассказывает, я уверена, что о своей знакомой (...). И они заговорили со мной, и так ласково, и так хорошо они говорили о книгах и со мной говорили. Мне ещё 20 не было. И вот тогда я чувствовала, что люблю людей. Да, тогда я любила их щедро, открыто, без ожидания удара или обиды.
И опять "трамвайное" воспоминание: девушка с лицом лукавой монашки, в чёрном платке -- что-то цыганское и монашеское (...). Вижу её, вижу улыбку, поворот головы, глаза лукаво блестят -- и помню, что любила её -- и обнимала любовью всех --- и не могу больше так безоглядно всех любить.
(...) Войти в других людей, раствориться в них, отдать им себя? Не знаю, способна ли я на это. (...) Сейчас прочитала у Бунина, как дряхлая нянька Толстого, слушая часы, говорила, что они будто у неё спрашивают: кто ты? Кто ты? Л.Н. восхитился: да, это главный вопрос: кто ты? (...) ты научила меня этому сегодняшнему раздумью (...).
21 января 1980. Киев
Моя родня, глупенькая девочка,
ты велела писать раз в неделю, вначале -- первую неделю -- это было ужасно трудно. Ты единственный человек, при котором я пою, и единственный, кому я пишу от желания, от всегдашней потребности сердца и души "высказать себя".
Я уже не думаю, буду ли интересна тебе, достанется ли мне (...) за приземлённость, мне ужасно сейчас хочется поцеловать твою макушку, показать язык: "Лопай, что дают!" Заяц мой родной.
И я говорю с тобой. Вдруг просыпаюсь ночью и начинаю говорить и понимаю, что надо это всё написать, но напишешь ли всё, что говоришь? Ни за что. Мне снятся мои письма к тебе; я исправляю их иногда во сне, утром забываю слова.
Я не буду писать тебе очень часто, дружочек. Но когда захочу, буду, хорошо?
Мне уже стало легче. И труднее -- всё кажется, что не 12 дней, а давно- давно видела тебя, и есть тоска и боль, но вот этой страшной, как будто похоронной, постоянной грусти нет. (...)
Получила прекрасные твои письма, родной ты мой Заяц, звони Инне, ходи к Инне, мне они очень интересны, твои училки.
А об Улановой она напрасно. (...) Уланова -- совершенство. Уланова -- девчонка, игравшая в индейцев, Уланова -- лебедь, Уланова -- Джульетта, Уланова -- совершенное выражение русской души. Эта чистота, чудо, правда, и ей- Богу, напрасно Инна: "глаза выцарапать". Для меня несомненно одно: если она не говорит с Майей (...), то что-то она, моя Уланова, осудила в Карменсите (...). А если даже я не права, что ж: она высока, прекрасна, совершенна, а слабости у неё есть -- ну и ладно.
Когда Уланова уходила со сцены, этого никто не знал. Последний раз в жизни она танцевала "Шопениану". Через несколько лет появилась фотография (не помню -- в "Правде"?) с подписью: "Вечное. Уланова в "Шопениане". Для меня она -- вечное; Майя, во всём её блеске, -- суетное. Понимаю, что, наверное, несправедлива. Львов-Анохин сказал в передаче о балете, что, полюбив Уланову, он был несправедлив к остальным балеринам: сравнивал. Нельзя не сравнивать.
Мы были на днях на "Жизели" (...) И вообще, из-за тебя, наверное, я немножко помолодела и начала всерьёз относиться к театру.
Была опять на "Пиковой". Из амфитеатра неслись шорохи, через несколько мест, слева, какая-то старуха время от времени что-то громко говорила на ухо внучке, сзади две дебелые дамы в один голос ахали: "Какая декорация!", а после Лизиной смерти спросили друг друга: "Это что, уже конец?"
Герман был молодой и стройный Дубровин, а Елецкий маленький и два раза начинал петь: "Счастливый день, тебя благословляю". И в Германе не было значительности, и всё я удивлялась, что тот толстый коротышка сыграл чувство, какую-то значительность, а тут: свеженький, хорошенький мальчик, конечно, не испортил всего, что написал Пётр Ильич, но я слушала Лизу, другую, и понимала, (...) как она пытается оправдать -- любя, обвинить себя в том, что могла подумать плохо о любимом (...). А Герман благополучно спел: "Что наша жизнь?", в середине арии швырнул монеты на пол, и они зазвенели, и "Что верно? -- Смерть одна!" -- не прозвучало после звона монет, жути поубавилось, но музыка была; хоть я и поклялась, что в конец партера больше не пойду, -- все шорохи собираются; дети мои были в восторге, они были в бельэтаже, и я видела их лица, я обрадовалась, что у них был праздник. Они слушали "Пиковую" впервые, а некоторые в оперном были в первый раз, но произвело впечатление на всех -- слава Богу!
А Лиза была т ы. От этого я не могла отвязаться. Ты с серыми глазами. Ты, мой прекрасный (...) друг, мой русачок.
До свиданья мой дружочек, прости меня, бегу в школу.
Целую Зайца.
В.
22.1.80 г., Киев
(...) Я целую твои письма, я стала сентиментальна (...) мой умный, мой единственный друг. (...) Я вела себя по-идиотски, забудь ради бога, не могу сама забыть, как я улеглась "обижаться". Лимоны! Бывают же такие дуры, как Малева!
Ты счастье моё, ты моя вся жизнь, ты и не знаешь, как много ты для меня сделала и делаешь.
Душенька, ласточка, не грусти.
Ты смысл моей жизни; как без тебя одиноко, но я знаю, что есть т ы, я сужу себя и сужу о многом, обращаясь к тебе, как к мерилу чистоты, правды, ты моя совесть, моя опора, ты мой друг.
Разве всё это может уйти из-за мелочи, в которой виновата я сама?
Родная моя (...) можно я пришлю хоть немного денег? Ведь гонорар ты получишь только в марте. Разреши мне, пожалуйста; мой сероглазенький, мой дружочек. (...) я стану лучше, я постараюсь, мой глупенький Зайчик.
Во мне есть суетность, не хватает принципиальности (трудно это объяснить, ведь не беспринципна я, но надо быть твёрже и прямее (...). До совершенства я не дойду, но колотить себя буду.
И не ругай себя, дружочек, из-за меня. Тебя Бог послал мне. Я живу памятью и мыслями о будущем. Мы вечные друзья, над этим ничто не властно.
Твоя Вера.
28.01.1980. Киев
(...) Лапушка моя, родная ты моя девочка, опять ты меня одеваешь, дружочек. Глупенький, пожалей себя. У тебя два года недоедания, трудностей, а ты, когда тебе стало чуть легче, думаешь об этой корове, а не о себе.
Заинька, не сердись за корову, ладно? Мне почему-то это приятно писать. Про корову.
Так вот. Я взвесилась. (...) Меня так испугала цифра на весах, что я теперь ем по часам, без сахара, соли, хлеба и ужина. Поможет ли мне это, не знаю. Сердцу легче эти дни (...). Ты в Переделкине сказала, что я плаваю, как пузырь. Конечно! Представляешь выталкивающую силу, которая действует на моё чахлое тело!
Так вот. Я помолодела (твоё влияние) и начала новую жизнь (...) просыпаюсь рано и читаю, два дня подряд -- Гаршина. Всё-таки сильнее всего на меня действует "Красный цветок". Бедный, бедный он, что-то трогательное в этом человеке, детское; помнишь, как он приехал в Ясную Поляну и покорил Льва Николаевича тем, что на вопрос, что ему угодно (классик не знал, кто это), ответил, детски улыбнувшись: "Бутылку водки и хвост селёдки".
"Красный цветок" -- это он сам, а антивоенные рассказы -- мне Толстой тут кажется, а бытовые -- не так хороши, как сам он.
Читаю ещё рассказы младшего Сергеенко о Толстом. Лев Н. сказал бы: "Удивительная энергия простоты и правды!"
Вересаев прав, Т. всю жизнь оставался ребёнком, и Бунин прав: в нём жило сто человек, а Сергеенко открывает такие славные, такие человеческие, такие необычные вдруг чёрточки, и меня всё трогает: и светскость, и мужицкое: ел, как аристократ, изящно -- и с уважением к еде, как мужик; ел щи да кашу, хвалил, когда менее аристократичные Душан и С. не могли есть,
как диктовал письмо -- удивительно, живо, чувствуя уважение к адресату, и вдруг в конце -- страх, даже выражение какой-то приниженности появлялось: а вдруг тому неинтересно общение с ним, Толстым; как играл в городки, как уговорил 18-летнего мужика не пить больше (самое хорошее в этом: парень пришёл за книгами "к дедушке", С. объяснил, что дедушка -- великий писатель, известный всему миру, но юноша на это -- без внимания, а уважительно говорил по другой причине: дедушка от вина отговорил, и мать велела благодарить его за это).
Я тебе надоела со Львом Николаевичем, но, кстати: он главное написал после 40,
Аксаков -- после 55,
журналист Гессен -- после 80.
Нельзя обобщать (...).
"Сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море", но -- как знать? -- что будет,
я молюсь за тебя. Есть твои "поздние" стихи, в которых ты так мудро и высоко проста (...) Твоя В.
28 января 80. Киев
(...) понимаю, что главное в жизни твоей, понимаю, Танюша моя, не сердись на меня, но ты отмечена Богом, и не только одарённостью он тебя отметил, -- (...) эти пласты, что переворачивает твоя душа и мысль, тоже потому, что ты талантлива. Прости меня, всё боюсь, что не сумею сказать.
В прежнем письме -- о споре в редакции (...).
Я очень надеюсь на то, что Россия не истреблена бюрократизмом и навязыванием единомыслия.
И я верю, что не переведутся русские бабки -- хранительницы очага. (...) верю:
иго вынесли, -- остались русскими,
руку хану целовали, -- остались гордыми,
по-французски говорили и даже думали, -- родили Льва Толстого,
пережили чистки, лагеря, завинчивание гаек, промывание мозгов, -- победили в страшной войне,
ей-Богу, ещё родим богатыря!
А песни? Я не всё в споре поняла, но как рядовой читатель журнала "Клуб", утверждаю: это мои песни.
"ЕШЁ НАРОДУ РУССКОМУ ПРЕДЕЛЫ НЕ ПОСТАВЛЕНЫ" -- неужели он, народ, будет кормиться эстрадными шлягерами или незатейливо искренними песенками -- славными, но не равными тому, что о н создал? (...)
...Ты ведь знаешь, как я не музыкальна. Значит есть что-то в них (песнях), на что откликается сердце, душа, по Гоголю: всё, что ни есть в человеке. (...)
Родная,
помни, что ты единственный мой человек, что ты вершина для меня, что бы там о себе ни говорила (...).
Родная, будь здорова (...).
До свиданья, мой человек.
Твоя Вера.
Мартобря. числа не было.
3.2 -7.2.80 г. Киев
(...) я не могу одинаково жалеть человека, которого унижают, и того, кто унижает. Понимаю, что надо жалеть всех -- это по-божески. Когда в первый раз читала "Божеское и человеческое", было мне 22 года. Я заревела (было это на пляже, среди интернатских детей), когда Светлогуб спросил у палача: "Тебе не жалко меня?" (Точно не помню, смысл помню). Что меня поразило: он жалел своего палача. Да, когда тебя убивают, может быть, пожалеть убийцу за незрячесть его и глухоту -- подвиг, но когда на твоих глазах убивают другого, унижают другого (...) вопрос может быть только: сострадаешь ли ты униженному достаточно сильно и глубоко (...).
Страшно, когда подыскиваются доводы для оправдания жесточайшего насилия. (...) Я же согласна признать сложность натуры Глушковой, неоднозначность её позиции -- хоть, знаешь, честно говоря, мне всё-таки отмыться хочется.
И попросту: есть национальные и расовые предрассудки, они были и у великих людей -- Достоевский, -- но нынче мир, переживший Освенцим и Хиросиму, не может позволить людям высокого духа их иметь.
(...) В.
20 Февраля 80 г. Киев
(...) В Киеве, в ТЮЗе, идёт пьеса "Любовь, джаз и чёрт". В ней учительница заставляет девочку читать вслух самую интимную страницу дневника. Девочка несколько раз читает, а потом теряет сознание. Учительница пугается, успокаивает её, гладит, но говорит: "Этот дневник ты почитаешь классу, мы обсудим..." -- девочка даёт пощечину учительнице. Её устраивают в больницу, в нервное отделение, и доктор спрашивает: "За что ты ударила учительницу?" Девочка отвечает: "Это не я её ударила. Это была не я". Актриса "это не я" говорила как-то очень искренне. (...)
В конце девочка пела "Подвиг" Чайковского и выбрасывалась из окна, потому что юноша, которого она любила, оказывался скотом.
Что-то в этой пьесе искреннее, это притча, со своими слабостями, но тронула она меня. Играл Вася, он играл одного из джазистов, самого доброго из трёх, после спектакля я сидела в зале и старалась не разреветься от того, что Вася Очеретяный уже взрослый, уже не прогуливает уроков, и не сражаюсь я из-за него с учителями, и этот спектакль -- его трудная работа, и он в нём разный, и нужен ему хороший театр. А главное: я чувствовала себя бабушкой, у которой внук выучился, вырос и на театре играет. Ей-Богу.
Надо отдохнуть от суеты. Славно было читать о спектакле в твоей школе, хорошо, ей-Богу; завидую ли? -- Пожалуй. И не только потому, что они это делают, а ещё и оттого, что есть атмосфера, в которой можно дышать.
На днях я говорила со своими детьми, и вдруг из правого глаза слеза сама показалась: обидно, страшно обидно, что нужно убеждать читать, быть интеллигентнее. "Чушь" -- в 10 классе реакция на "Облако в штанах", страшно не только это -- чушь, страшно самодовольное сознание, что ты, не сомневаясь в себе ни на минуту, можешь это сказать.
Обидно, что Асадов -- здесь уровень большинства.
Я не снимаю с себя никакой ответственности, но традиции создаются годами (...).
Какое-то здесь в воздухе неуловимое мещанство, отсутствие "Давай улетим!", тонкости у взрослых.
Есть неглупые, есть хитрые, есть добрые, нет по-настоящему интеллигентных.
Понимаю, что (...) работать надо, начала делать Гоголя -- надо продолжать, но одной себя чувствовать -- тяжело.
Прости, Зайка, прости, милый, что вдруг "заизливалась". Ты чудо чудное (...).
Твоя В.
25 Февраля 80 г.
Родная моя,
захотелось вдруг писать карандашом, жить при керосиновой лампе, слушать дождь, знать, что бездорожье и долгие дожди пройдут -- и вдруг войдёшь ты, чудный Заяц...
Малыш, не сердись на меня.
Ты очень мой добрый и славный, ты очень честный и настоящий русачонок, с серыми глазками, с певучим голосом, за душу берущим, мой родной лесовичок, моя светлая, добрая подруженька. (...) Таня, Танюша.
Как хочется удрать с тобой к тюльпанам весенним, лугам, светлым крымским лесам! (...)
Зайка, наверное, моя жизнь прошла бездарно и в пустяках. Да, наверное, надо брать трудное дело (...) и работать сверх сил. Но во всём я была половинчата: отдать себя только детям, отвернуться от радостей отдыха, "неторопливого одиночества", чтения я не могла.
(...) Сколько суеты: собрание, политзанятие, комс. собрание школьное -- все читают по бумажке, читают после худосочных выступлений (...).
Господи, даже я ещё помню комсомол другим. Более наивным, может быть, более прямолинейным, но и более искренним, ещё не погребённым бумагами. (...) Затхло. Главное, многие довольны. Тихо.
И я, попробовав ада в 194-ой, довольна, что не трясут, но мы вольные птицы. А они нет. Хуторяне. (...) А когда я говорю, что Распутины -- Астафьевы -- хранители языка, а мне самоуверенно, глядя сверху вниз, говорят: "А что, Иванов не на том же русском языке пишет?" -- у меня тупая грусть в душе. (...) Вот что страшно: они довольны собой (...).
11 марта 1980. Киев
(Открытка)
(...) сегодня в 7 классе был Маяковский.
Читала "Единица -- вздор, единица -- ноль" -- и стало не по себе.
Конечно, на случай поднятия пятивершкового бревна -- вздор и ноль. Но вообще-то, почему? Никак не пойму -- зачем? Время, что ли, такое было?
Детям объяснила, что так думать нельзя, что любить надо людей всех и по-одному.
А до этого был "рождённый ползать летать не может". И "врага прижал бы я к ранам груди, и захлебнулся б моей он кровью" -- как сейчас по-новому смотришь на всё это. Это абстрактное прославление "счастья битвы" -- от него не по себе.
(...) В.
Киев. 15-16 марта 1980 г.
(...) Эта твоя единственность не только от моего восхищения тогдашнего -- глубиной, необычностью, талантливостью, -- и от созвучия нашего в чём-то главном. (...)
Родная моя, друг мой и сестра (...), может быть, и нельзя понять друг друга до конца, наверное, нельзя, но мне хотелось бы понимать тебя, мне казалось, что я иду к этому пониманию (...), потому что ты так правдива, так честна, так откровенна со мной (...)
Ты -- умный, благородный, думающий, страдавший, сочувствующий беде, не принимающий насилия и лжи -- человек. Что бы ты ни противопоставила этому -- это в тебе есть.
И ещё в тебе есть такая высота и чистота любви и дружбы, какая бывает только у достигших высот духа. (...)
Ты (не сердись на меня, Танюша) одна из немногих. (...)
Я перечитываю твои стихи, и иные вижу так, как не видела раньше, и вижу в них тебя, ту тебя, что я знаю, люблю и буду любить, пока живу, в этом нет даже минутного сомнения (...).
Будь здорова, моя родная, мой друг родной, светлый, мой единственный.
Твоя В.
Киев. 26 марта. 1980 г.
(...) поезд прибыл в 6.13. Пошла я на пригородный. Электричка из Белой Церкви должна быть в 8.42. И пошла я по Киеву. Съела твои припасы, заботливая моя сестрёнка, а хлеб отнесла в Ботанический сад (помнишь, там мы встретили собаку Пальму и её хозяйку?) Стала кормить синиц почти у дорожки. В Киеве ещё глубокий снег, а вчера была метель. Синицы очень забавно себя вели: перелетали по две, хватали крошки, потом ещё две-три, а одна, смелая, чуть не до меня допрыгала. Вдруг за мной голос: "А я им с е м а ч е к подсыплю, они с е м а ч к и любят" -- и тётушка, рыжая, по виду не совсем простая, поздоровалась и высыпала "семачки". И склевали разбойницы.
Я пошла дальше. Там были одни вороны да галки -- и сумрачно. Хлеб я скормила.
И всё думала о глазах твоих, единственных. И как будто ты стояла за мной и утешала меня. (...)
Странно, опять меня потянуло из-за тебя к музыке, к (...) новому восприятию сентиментальных историй (...).
И стала я терпимее и строже (...).
(...) вряд ли я стану философом, моя девочка, но лучше ведь могу стать? И знаешь: меня всегда беспокоит, нравственно ли то, что я делаю.
По убеждениям я -- толстовец, по жизни -- нет. Не могу только служить, хоть считаю, что это высшая форма жизни. И ещё: мне страшно отдаться сознанию неутолённости или несчастливости своей. Не жалеть ни о чём? Это почти невозможно, но надо стараться. Милая моя, ты не думаешь, что я легкомысленна? Нет, не думай так, хорошо? (...) Ты ведь, как никто, понимаешь, как мне (нелегко).
(...) Пишу уже 27-го. Решила этого предложения не дописывать. Писала в театре ("Тихий Дон"). Детей было мало. Им, к удивлению моему, опера понравилась. Я спросила, что из 4-х: "Фауст", "Гугеноты", "Пиковая дама", "Т.Д." -- произвело самое сильное впечатление? -- "Пиковая" (ты ж понимаешь, как я цвела от радости -- любимая "Пиковая".)
Писала в антрактах. Во втором была милая сценка в оркестре (наша ложа висела над оркестром). В оркестре остались: лысый виолончелист, два кларнета и арфа. Кларнеты дули и чистили платочками инструменты, арфа что-то щипала, а виолончелист два раза бессмысленно двинул смычком и вдруг заиграл красивую мелодию, очень нежную какую-то, -- бескорыстно, ни для кого как будто, а потом скосил глаза на арфистку -- она улыбнулась, слегка подалась вперёд и зааплодировала. Мне почему-то приятно ужасно стало.
Арфистку я помню со времён детства. И она всё такая же: рыжеватая, маленькая, с каким-то жалким перманентом, похожая на капельдинершу, а тут была минута какого-то светлого братства двух музыкантов.
Я не кажусь тебе сентиментальной дурой?
А если кажусь, ты ведь меня прощаешь?
До свидания, мой прекрасный друг, мой добрый человек, мой нежный ангел.
Зайка родной, я думаю о тебе всегда. (...) Ты только помни всегда, как много ты для меня сделала, хорошо? (...)
Твоя Вера.
5 апреля 1980. Киев
(...) Я не хотела огорчать тебя и не хочу сейчас, а пережила я смерть милого и доброго человека, женщины, знавшей меня ещё худенькой девочкой и хотевшей когда-то быть моей свекровью. Я знала, что она добрая, славная, хорошая; 15 сентября мне позвонили и попросили зайти к ней домой, её муж плакал и говорил, что ему незачем жить.
Она умерла над письмом внуку.
Письмо осталось неоконченным, но главное -- что значит в жизни духовное! -- она успела написать; я читала это письмо (прошло всего два часа, как всё случилось), и мне было горько, больно и стыдно: как я не знала её, как много скрывалось в её простоте.
Эта женщина совсем молодой встретила войну в Польше (Зап. Украине), муж ушёл по тревоге, думая, что она -- тревога -- учебная, и проехал мимо неё через два часа -- она и все женщины военного городка с детьми стояли вдоль дороги, по которой шли наши танки; была у неё блокада -- она ленинградка, был госпиталь в Ярославле, где раненые немцы кричали "Schwester - Schwein" (сестра-свинья) и утихли только после Сталинграда; была после войны счастливая семья, наверное, не только из-за их любви, а и из-за её деликатности и мягкости.
Этим летом я встретила её в больнице, в инфарктном отделении, где лежал папа, и ахнула: "Анна Ниловна, почему Вы здесь?" -- "У меня инфаркт, Верочка." (...) Прости, моя подруженька, моё утешение в этой жизни, прости меня. Я не должна была писать тебе этого, а мучит это меня, не всё время, а мучит, и страшно, и виновата я в незнании и невнимании к светлому живому человеку.
(...) Ты -- совесть, это главное, и солнце, и молодость -- и это тоже так важно, так нужно, так наполняет жизнь. Прости меня. (...) В.
5 апреля 1980 г., Киев
Родная, обрадовалась твоим стихам, перекрестила их, как ещё благословить их не знаю, Шевченко называл стихи -- детьми, оно так и есть. Дети молодости, светлых и трагичных размышлений, дети музыки, заполнявшей душу, -- дети, (...)
А чувство славное было -- Зайца напечатали, можно перечитывать -- и никого больше читать не хотелось, одна строчка была как будто н е т а, что я помню: под сосною я глядела в(?) высь, я к ней привыкла. (...)
В общем, я рада стихам.
Бог с ними, пишущими о стихах (вернее не Бог, а кто-то другой с ними), главное, это всё равно стихи, душа, открытая миру.
Милый друг, помни меня, ладно? Всегда, всегда.
Я вижу тебя иногда так ясно с твоими детьми, так радуюсь, когда они вдруг "пугаются себя",
ты им нужна, Господи, нужна, ты ведь чудо, ты и сама не знаешь, какое, -- поэзия, глубина, сердце, смятённость, борьба -- всё (и ещё как много) в тебе. (...) Люблю тебя.
В.
Киев. 9 апреля 1980 г.
(...) что сказать тебе о себе. Мне было страшно представить будущее, когда мне было 12, а то и меньше. Помню: проснулась ночью, был какой-то странный полумрак -- до сих пор мне кажется, будто вижу чьё-то белое покрывало во мраке сером, и помню страх, недоумение, невозможность представить, что вырасту, буду взрослой, страх от неведомости, непонимания жизни.
Несколько позже, а может, тогда же я поняла, как плоха я и что меня не любят. А я хотела, чтоб меня все любили, как Наташу Чурочкину. Наташа Чурочкина, живущая теперь на Ордынке, -- первое чудо, встреченное мною. Я ей завидовала (...). И всё-таки мне хотелось сделать себя по Наташе: быть доброй, ровной со всеми, любимой всеми. Да, ещё и сдержанной, простой и т.д.
И я попробовала переломить себя. Мне не всё удалось.
Но что-то удалось.
17-18 лет меня перевернул Роллан. Мои прежние представления о человеке были сметены.
Помнишь Петра Ильича: "Я ни разу не изменил себе, а хорош я или дурён, пусть судят другие".
Роллан принял как данность, что человек изменяет себе, падает, поднимается и т.д. Взгляд Р. на любовь поразил меня чистотой в "Пьер и Люс", знаешь, он меня научил не то, что всё прощать, а всё понимать.
А я? А я в 17-19 переживала страшно безнадёжную любовь, не понимая всех причин безнадёжности, -- но помню, как однажды, говоря с предметом любви, сказала, что в душе у меня радость, какая-то радостная основа, даже в состоянии боли, тоски, и он сказал: "Да, как бы ни было мне плохо, я знаю, что завтра буду стоять на голове". Я отходила от людей, которых любила, иногда из глупого самолюбия. Мне донесли, что он сказал, что во мне нет гибкости ума, мышления, что я упряма -- и я перестала с ним здороваться. Сейчас я думаю; ведь он был немолод, наверняка, это было небезразлично (ему): я видела это по его лицу и -- "от автора, которому внимала ты на лекциях его, и в думах которого В ы часто являетесь."
(...) Он умер лет через 8-10 после нашей последней встречи.
Я не поняла значения этой смерти, только однажды осенью вдруг -- опять помню точно -- тёплый вечер, шла домой, какое-то фантастически огромное, круглое дерево с коричневыми листьями -- и вдруг чувство одиночества оттого, что он умер.
В 21 год я пережила интернат. Это была работа, принижающая достоинство: глупые бабы во главе, дети, которых я любила, но многие из них крали, матом ругались почти все, это были голодные мальчишки, себя они называли байстрюками, а я рассказывала им сказки после отбоя, приносила из кухни хлеб, лук и сахар, но мне почему-то было безнадёжно от сознания, что я ничего не могу изменить. И я чувствовала, что падаю: могу начать драться (...).
Второй год -- уже в школе! -- счастливый от сознания, что вот: иду на работу, как хорошо! А как я работала! А как старалась! А все мои КВНы, литературные и всякие!
И бегала худая Малева, и играла в лапту, и бродила по лесу -- и было счастье.
В 20 лет я увидела Валаханович и поняла, что значит музыка, как человек бывает безмерен и глубок, как я не вижу людей: Майке нужен был вечер, чтобы увидеть грусть в Леоноре, а я не увидела её за годы. Мы не были друзьями. Майя была интересна, оригинальна, в ней было знание чего-то недоступного мне. О Гриме (преподавателе. =Т.Н.=) она сказала: "Ты должна убить его". Она его тоже любила. Потом: "Ты должна бежать с ним". В ней была природа, т.е. она была как природа -- что-то извечное, безначальное (...). А чем кончилась наша последняя случайная встреча ты знаешь: она назвала негритянскую певицу черномазой: "Какая-то черномазая, а какое совершенство!" (Последний раз я видела её на днях: в оперном давали "Реквием" Верди, в хоре я увидела Майку, не с прежним пухловатым, а определившимся, каким-то значительным лицом; какую-то секунду мне казалось, что я слышу только её голос. Значит, она опять поёт в "Думке". В последний раз мы говорили о негритянке, певшей в "Реквиеме" партию меццо-сопрано.
Господи, чего в жизни не бывает!)
Было ли во мне стремление к совершенству и совершенствованию? Или самый мощный толчок был тогда, в 12 лет? Наверное, в 12 лет.
Пересказывать всё не могу, да тебе интересно ли? Я очаровывалась людьми, радовалась им -- так было с Линой Ошеровой (...).
Ариадна Викторовна, т.е. сам факт её существования, вывел меня из состояния довольства собой (...). Я вдруг увидела совершенство. Для меня она (А.В. Чернова. =Т.Н.=) была воплощением России, великой и скромной красоты русской души --
Этот Бог и скромнее всех прочих Богов,
и невиднее их, и дороже их.
Как я жила после её смерти? Изменилась ли моя жизнь?
Сначала я была уверена, что должна посвятить её Володе (Сосинскому. =Т.Н.=): помогать ему в память о ней, и какое-то время он был очень, особенно любим мной. Тогда в Михайловское я приехала (хоть уже и любила его просто, а не особенно), чтобы увидеть его. И вдруг увидела тебя.
Не думала, что меня можно так перевернуть, потрясти. И если б это кончилось: повосхищалась и перестала. Или увидела: умна, талантлива -- и успокоилась. Нет, я не думаю о твоём превосходстве, хоть оно во многом (...) несомненно.
Я думаю о чуде нашего вечного родства, о том, что никому не открыта я так, как тебе.
Душенька, дружок мой, я целую твои прекрасные, чистые глаза, родной нос моего русачонка, светлая моя, лесной мой соловушка.
До встречи, моя родная. Твоя В.
13.04-80 г. Киев
(...) девочка в 76 году говорила: мне ещё (только) 25; хочу в Москву; почему я не крокодил?,
а глаза у неё были омытые слезой, и была она чудом не оттого, что сознавала свою молодость, а от той глубины, в которую страшно было заглянуть, и если в её жизнь вошла ещё сильнейшая боль, глубочайшее страдание, то разве от этого уходит потрясение (...) и чудо?
Скоро 4 года, а сознание, что свершилось чудо, чудо единственной дружбы, не покидает, и волнует, и удивляет, и заставляет молиться: Ты не оставил меня, Господи, Ты наградил меня за веру.
Милая, родная моя, я не хочу тебе говорить, что твоя заплаканная царица просто глупа и несдержанна, нет, я не говорю тебе этого,
думай так, как прежде думала,
моя прекрасная,
мои глазоньки ненаглядные, мой кутинька добрый (...).
Чудо твоего появления в моей жизни всегда помню, помню -- ощущаю, сужу себя, зная, что есть ты -- совесть и сознание правды, добра.
Милая ты моя, добрая, единственная (...) спокойной ночи тебе.
Твоя В.
P.S. Малыш мой,
кончилась первая неделя Пасхи, но Христос ещё на земле.
Зайка славный, сегодня всё утро говорю с тобой, а ты так кротко и нежно слушаешь. А я сны рассказываю. Моя ты родная.
Твоя В.
Киев. 14.04-80 г.
(...) Родная моя, откуда бесприютность и боль, не знаю. Вдруг сознание: жизнь уходит, а что ты сделала?
Нет, не влюблённый имеет право на звание человека, а творец. (...) На днях говорила с одной неумной знакомой, она, как откровение: "Талант дан Богом, я не могу уважать за талант".
А чем платит человек за данное Богом? Она согласилась. Что значит -- уважать, не уважать -- мне от этого не по себе, тем более, что после этого заявления у неё тут же последовало полупрезрение к людям, не отмеченным природой.
Так вот, передо мной вдруг необычайно ясно вопрос: зачем живу? Не вообще -- живём, а зачем я живу? Учить? Никто почти учиться не хочет. Привлекать к чтению? Быть просто доброй? Читаю много -- зачем? Вчера в "Музеях Бельгии" наткнулась на Иеронима Босха -- "Несение креста" -- вот он ужас мира, лик его неприкрашенный, издевательский.
Таня, родная моя, такое чувство сейчас, как будто ничто не согреет в холодном мире. Танечка, помоги мне сейчас, сию минуту, ну, скажи что-нибудь, твой голос хочу слышать, утешающий твой, глубокий, нежный твой голос.
(...) Какие-то сны страшные. Недавно сон: меня должны повесить на крыше какого-то небольшого деревянного дома. И я бегу от казни. Бегу по деревьям, по кронам, они тёмно-зелёные, огромные, спрыгиваю на городскую стену и падаю в море, и ты плывёшь ко мне, обнимаешь меня, и я понимаю, что спасена, и просыпаюсь. (...)
А днём позвонила Элька. Я не сразу её узнала, слишком неожиданно было её появление в Киеве. (...) Она просила Шукшина. Я взяла Богата, начала, правда, с Шукшина -- "Осенью". Всегда я реву над этим рассказом, и всё для меня в нём, что было в Ромео-Джульетте, Элоизе-Абеляре, Петрарке, какая-то такая простая, неизбывная тоска, боль, любовь, -- это слова о сиротстве без Марьи и что собираться пора!
Элька мне: "Они на Асадове воспитаны, а Вы им Петрарку."
Они, может, и на Асадове воспитаны, но они так славно слушали, тихо, но не тупо, -- немножко я умею чувствовать слушающих меня. (Лекция Веры в гостиничном техникуме. =Т.Н.=), что-то есть во внимании обнимающее, умиротворяющее, утешающее: ты нужен хотя бы этот час.
Я привела с собой девочку из 8 класса, она читала три сцены из "Ромео и Джульетты" -- первая встреча, разговор на балконе, венчание. И так чисто читала, -- я хотела взглянуть на публику и не смогла повернуться: строгое, чистое лицо этой Оксаны не позволило.
На следующий день пришла в школу худющая Элька. Я тебе уже сказала: 3-го мая она с Женей венчаются в Печерском районном загсе (Элька не хочет церемонии Дворца, с поклоном "батькам", с зажиганием факела и т.д.)
Родители Жени повели себя дико ханжески (...).
Обидно, что Линка (Элька) входит в такую семью, но я верю в жизненную силу её родителей (...)-- в тылу (...) мощная поддержка. И у Эльки завидное равнодушие к мнению ханжей: "Все, кого я люблю, не осудят меня, а на остальное мне наплевать: пусть говорят, что хотят".
Я завидую. Нет, никогда я не была смела. Всё понимала, но была для себя ханжой. Меня воспитало предыдущее поколение. Ему я удобна такая, и я стала удобной. Спрятала себя. (...) противно вот это как будто неведение о том, что любовь -- это всё: духовное, физическое, радость общения и радость принадлежать друг другу, -- то ли не все пережили чистоту и счастье этой радости, поэтому нет настоящего чистого отношения к тому, что Вересаев назвал высокой и строгой тайной любви?
Надеюсь, что Элька будет счастлива в любви, не сомневаюсь, что она будет хорошей матерью и вырастит счастливого ребёнка. Дай Бог. (...)
Твоя В.
12 мая 1980. Киев
(...) сегодня выдыхала поход: не слишком много прошла, но пришлось кое-где идти по воде: Днепр ещё не вошёл в берега, и на островах озерца, Кашляю слегка, кости ломит -- старая к-ча (не пишу полностью, опасаюсь твоего гнева).
Читала весь день Короленко: о голоде; страшно жил русский крестьянин, поэтому до сих пор, наверное, самая пронзительная боль -- шукшинско -- распутинская. (...)
Приезжал К. Ты уехала 4-го. 5-го зацвели абрикосы. 6-го приехал К. Он причёсан гладко. Его портрет висит в Полтаве на городской доске почёта. Это решение горкома. Из мединститута он там один и очень этим гордится. Он хотел бы жить в Киеве. Но ему нужна квартира. Ему нравится киевское "Динамо", "Сокол" и Днепр, он купил бы лодку, дачу ему тоже хочется иметь, но он согласен, что дачу можно подождать до пенсии.
И-О-Н-Ы-Ч!
Вот чем кончил романтик К. И он делился своими планами с такой искренностью, что я не посмела улыбнуться. Нет, нельзя отдавать меня К. Он уехал 7-го, и знаешь: нет у меня даже сожалений: "кого любила!" Совсем почему-то нет. Может, он был другим: стихи писал, какие-то сентиментально-романтические письма, летал в Киев, говорил, что я вернула ему его 17 лет. А сейчас: "Понимаешь, я перед праздником заехал, и мне всё дали; балык, рыбу, а как в Киеве будет?" "Я хочу иметь частную практику, в Харькове ко мне народ валом валил, меня знали". Нет, молодость глупа (моя молодость) и истратила душевные силы на будущего Ионыча.
(...) Не сердишься на меня, дружочек мой? (...) Целую тебя нежно.
В.
Киев. 18 мая 1980 г.
(...) Сегодня мне пришла мысль, что ты тот человек, которого я хотела бы видеть в последний свой час, об этом не надо думать, но это правда.
И ты -- тот человек, что жалеет меня и любит, и поэтому, когда приходит страшная мысль: жить незачем, если жизнь потонула в суете, ничего стоящего не сделано (...) я знаю, что есть ты.
Когда-то я очень верила в вересаевские рассуждения о том, что живём не для того, чтобы бороться, любить, дышать и т.д., а дышим, боремся и любим, потому что живём. И всё я очень естественно воспринимала. А теперь вдруг этот вопрос: для чего?
Сказать людям какую-то свою правду, кроме уже сказанных евангельских, толстовских, я не могу. Приняться за обличение не-доброты -- мой голос не будет слышен -- да и есть ли у меня время и право на это?
Мне, как никогда, хочется верить, как верил Чехов, что человечество идёт к высшей правде, -- оно-то, может, и идёт, но по пути создаёт бомбы; (...) мне иногда хочется забыться в молитве, стать смиренней, отрешённей, не судить, но начитается жизнь и суета, я сужу, мельчаю.
Родная, прости меня. Наверное, я опять пишу не то. Но три письма я уже разорвала. (...) Ты моя правда, моя совесть, мой человек.
Твоя Вера.
Киев. 25-26 мая 1980 г.
(...) Милая ты моя, ты поэт для меня по тому, что ты пишешь, и поэт- человек, можешь меня сколько угодно разубеждать (...); иногда мне вдруг кажется, что в стихах живёшь ещё не узнанная мной ты; (...) я вдруг сегодня поняла, почему ты не разрешаешь говорить слово "поэзия" всуе.
Родная моя, боюсь, что ты рассердишься, если опять (спасибо Экзюпери) назову тебя вершиной (...) Добрый мой человек, мне так хорошо, что ты пытаешься понять и в Магдиче, и К. Хорошо, Заяц, не буду их судить, только что-то забавно грустное в нашем разговоре было: он "делился" со мной как с другом. (...) Пусть всё у него будет. Но К., недовольный собой, думающий, что в 40 умрёт, пишущий плохие стихи, был мне дорог. (...) Скучно мне от него, Заяц. Кончилась комедия, скучно кончилась. Я не жалею о душевных силах, растраченных когда-то; значит, судьба была. Вот только, если предположить, что я встретила его тогда -- свободного, и была бы у нас семья, вот так всё и было бы: машина, балык (дался он мне!), мечта о даче к пенсии? (...)
Маленький мой, уже больше трёх недель, как мы расстались, а чувство: как целый год.
Целую милый нос моего Зайца.
В.М.
12 июня 1980. Киев
(...) При Вахтанге я не осмелилась перекрестить поезд, и у меня сейчас опять надежда, что дни до встречи пройдут незаметно. Отпуск у меня со 2-го июля.
Малыш сероглазый, от тебя нет вестей. Вахтанг (Чхаидзе, киевский режиссёр и педагог. =Т.Н.=) звонил и спрашивал о тебе. И ещё: Ошерова будет читать его детям курс истории живописи, я пошлю несколько детей к нему, он согласен взять полуслепого двоечника Биденко; да, самое радостное -- к нему вернулась та девочка (Наташа, кажется?), и, конечно (...) будет она играть Надю. (Речь идёт о спектакле памяти Нади Рушевой, гениальной московской юной художницы. В 1979-1980 годах, общаясь с Чхаидзе в журналистской командировке, я подготовила наш совместный материал об увлекательной одиссее киевских подростков, и он был опубликован в журнале "Клуб и художественная самодеятельность". =Т.Н.=) Радостно мне, что он искренний и чистый энтузиаст и просветитель. А насчёт "Школьного вальса" и звонка он со мной не согласился (...) Он очень убеждён, что нужен "Шк. в.", и именно в исполнении Бунчикова. Пусть будет. Главное для меня даже не спектакль, а его отношение к детям, желание работать со всеми (он так обрадовался, что могут прийти к нему ещё дети) (...) Дай Бог ему дождаться среди своих учеников -- последователей. (...)
До свидания, моя светлая. Целую тебя и глазоньки твои.
Вера.
Конец июня (?) 1980. Киев
Дружочек, я неправильно поняла тебя. Думала. Что с 4-го ты в Москве, что кончится и Куликово, и Зея-Бурея.
Очень хочу увидеть тебя перед Благовещенском (Господи, даль-то какая!) Коли не удастся, то еду в Михайловское до 25, потом еду в Вологду.
Очень хочу с тобой увидеть Белозерск, Ферапонтово, Кириллов -- и -- мечта -- Великий Устюг. (...) Жду твоего звонка 4-го или 5-го утром. (...) В Белозерске есть гостиница "Русь".
Давай побродим по России то в карете, то пешком. (...)
Твоя В.
Киев. 18 июля 1980 г.
(...) Я не знаю, когда смогу уехать из Киева. Папа ещё дома. Если его положат на исследование и решат, что необходима операция, то я останусь в Киеве. (...)
Вспоминаю я и себя сейчас в 1976. И очень ясно вижу тебя, читающую Рубцова. Даже помню, что прислушалась я к стихам о поэте.
Удивительно, что ты настолько младше меня, а и тогда, стоило тебе заговорить со мной, я вдруг ощутила твоё старшинство. Я не то что испугалась тебя, но вдруг поняла, что ты человек необычный и необычно глубокий и серьёзный. И удивилась, что ты сказала, что пела бы Окуджаву, если б не было так поздно. Как странно, как странно быстро вдруг поняла я тогда, что ты единственный человек. (...)
Понимаю, что ты иногда ищешь во мне ответов на вопросы, ответов, которые я не могу тебе дать. И всё-таки страшнее всего было бы для меня потерять твою дружбу.
Как хороша юность! Мне тогда казалось, что умна я безгранично -- вот счастливо глупое создание; что я счастлива только оттого, что живу, что любви мне хватит, чтоб обнять всё человечество.
(...) любовь к человечеству -- не знаю, счастливой детской влюблённости в лукавое цыганское лицо уже нет, пастернаковское "превозмогая обожанье" близко мне, когда я думаю о своих русских бабках, евреях, замученных в гетто, негритянке, поющий "Реквием", наверное, любви во мне много, но когда-то она была смелее и безогляднее.
Мне хочется сейчас в тишину, в лес, увидеть тебя, помолчать, уткнувшись в твои ладони -- страдание стереть, как пот, сухой ладонью, -- родная моя (Вера цитирует стихотворение моё, впоследствии напечатанное в сборнике "Есть музыка". =Т.Н.=); много читала тебя -- письма, стихи, если есть лишние (экземпляры), пришли Рембрандта и то, которое я помню только зрительно: полустанок, коляска, ребёнок, женщина и мужчина -- и почему-то белое и тихое всё.
Не сердишься? Может быть, ещё пришлёшь? Ты мне давно ничего не читала. В первый раз я услышала твои стихи 5 июля 1976 года. Помнишь? (...) Я плакса, ты знаешь. И сейчас вдруг плачу. От всего. Трудно рассказать. Не знаю, что меня ждёт.
Будь здорова, моя родная, будь здорова (...).
Вера.
Татьяна Никологорская
РЕМБРАНДТ
За окном -- в окне чужого дома,
Где шла медлительная вечеринка, --
Нечаянно Рембрандта увидала.
Спокойного и мудрого. Живого.
Так женский жест был плавен и прекрасен,
Так старики достоинство хранили,
Их головы лепились, как скульптуры,
В коричневом и тёплом полумраке
Подсветки золотистой мягкой краской;
И блюдо с хлебом плыло над столами,
Содвинутыми, как соседей плечи;
Вино будило речь, будило пламя...
Но я не слышала ни звона чаш, ни речи.
Я лишь глядела, благостно строга...
Благословляю плиты очага!
И эту охру скромного житья,
И вас, широкоплечие друзья,
И мёд, и горечь, и гостей число,
И мастера святое ремесло!
1978
(Из сборника "Строгая юность")
* * *
Мир из окошка вагона
Кажется проще и легче.
И на далёком разъезде
Облако долго горит.
Можно завидовать песне...
Вышел мужчина из дома,
Женщину обнял за плечи.
Рядом коляска стоит...
1978-79 годы
31 августа 1980 г. Киев
(...) Не могу избавиться от видения:
ты летишь по Москве, и глаза у тебя светлые и счастливые,
моя родная до слёз, до боли сердечной.
Ты сказала, что нас связывает сострадание.
Да, милая. Дружба, любовь, сострадание, Христос, Будда, Пушкин, Россия, берёзы, Дон.
Он льётся, блестит, рыба играет, сероглазая девочка на берегу.
И ещё ты втягиваешь меня на холм, а потом мы сидим под деревом, и нагнёшь голову -- ковыль, в нём вечное, как в кипарисах, полыни -- в чём ещё? (...) Мне многое кажется сейчас не стоящим внимания -- и всё-таки я всё слушаю, отвечаю так же пусто и бестолково, а когда начнётся главное? После 1-го? И я боюсь. Минутами панически боюсь. Примут ли меня? Всерьёз ли я что-то значу для них и влияю на них? Или это самообман -- моё стремление посеять добро? И нет его?
В класс приходит мальчик, очевидно, тоже с остаточными явлениями после инсульта (проклятый век -- это уже второй у меня). Сумеют ли они быть тактичными, просто бережно отнестись к нему. Я у них третий год и знаю не всё. Хватит ли их на длительное сострадание?
Надо жить и работать. И понимаю, что надо верить (зачем мне имя дано?)
Я готова молиться, чтобы верить, что как-то остаюсь в них. А остаюсь ли? Вопрос, на который не ответишь, и утешать себя нельзя, а правду сказать страшно.
Нужны ли Базаровы России?
Всё, маленькая.
Ты не думай, я всё-таки верю.
Верю -- всё! (...) (Вот с завтрашнего дня и начнётся разрушение веры). С праздником, мой дорогой первоклашка!
Всё равно с праздником!
Целую.
В.
(Тогда же. Продолжение письма)
(...) да, надо было пройти по Москве, увидеть тебя, летящую, рядом, ощутить твой взгляд -- друга (...), божества -- чтобы понять (...).
Нужна я? Не нужна я? Зачем так глупо бормотала об этом в прошлом письме?
Тебе нужна! Спасибо тебе, Господи, что я нужна одному человеку. (...) Это гордыня -- начать вдруг считать, кому нужна. Сегодня была нужна четверым. Одному -- заступиться на суде, другому -- отвезти к Вахтангу, третья делилась радостью, четвёртого -- Васю -- увезла со сцены ТЮЗа скорая, он вечером звонил, не выплакивался, а поговорить надо.
Все д е т и. И нужна на минуту. И пусть.
Моя драма в том, что я не умею до конца отдавать себя в любви к людям.
Я не дошла до вершин любви, но известные мне люди, дошедшие до этих вершин, не упрекали других. Смирение, терпение -- вот подвиг, который мне недоступен.
Нет, смирение не перед завотделом (ты всё правильно сказала; ничего, начальству полезно иногда внушать кое-какие правила), в смирении своих желаний, стремление во имя любви к другим,
нет, я не могу. И вижу свет, а войти не могу.
Из Тбилиси мне прислали "Закон вечности" Н.Думбадзе ("Мерани", 1979 г.) Там во сне героя Солнце умирает: "Я пылающий дух почивших в любви людей... Жизнь моя питается душами людей, умерших в любви... И теперь настал час угасания моей жизни, ибо иссяк на земле источник любви, ибо от ненависти умирает больше, чем от любви... Верните жизнь любви, и я воскресну из мёртвых... (...)"
В одном из снов-видений герою является Христос -- юноша, спокойный, улыбающийся, милосердный и удивительно родной, с бледно-розовой затянувшейся раной на босой ноге, и говорит: "Я есть вера, надежда, сила, добро, талант любви и свобода!"
У сна этого поэтический конец: Бачана разлился дождём, и проросла трава, и поднялись цветы, и забил сквозь выжженную землю родник, и обернулся он (Бачана), герой, мощным дубом, и прилетели птицы к нему.
Опустился тогда Бачана на колени, низко поклонился юноше и сказал: "Я видел тебя и уверовал". И рек ему Христос: "Ты уверовал, ибо лицезрел меня. Блаженны те, кто веруют, не лицезрев меня..."
Мне показалось, что это хорошо -- сон, конец сна, а потом, к сожалению, герой-атеист проснулся и начал наступать на священника (оба инфарктники).
Когда-то Лёв Николаевич справедливо заметил, что заблуждение социалистов в том, что они верят, что устроят новую жизнь, устроив её внешнюю сторону. И Думбадзе -- вот насколько искренне только? Может, и искренне -- доказывает превосходство коммунистического мировоззрения над религиозным. (...)
(...) любое самомнение, любая вера в то, что вот я. мы постигли, что есть человек и чем жив он, кажется мне какой-то ограниченной, а сам человек -- неожиданным, не влезающим в рамки и правила, не поддающимся искусственному выращиванию, истолкованию, преобразованию по правилам.
(...) Прости, моё светлое-пресветлое Солнышко (...).
Твоя Вера.
9 сентября 80 г. Киев
Русачонок,
любимый и глупенький!
Поздравляю
с 600-летием победы на Куликовом поле,
500-летием стояния на Угре (как подумаешь, до чего хорошо, - постояли, разошлись -- иго кончилось!),
с днём рождения Льва Николаевича -- сегодня летела по виадуку -- и вдруг -- захотелось заорать: живите, живите все, люди, цветы, кошки! Почему мне вдруг так хорошо стало, и -- вдруг -- опять это вдруг: да 9 сентября, Лев Николаевич родился -- "обнимать любовью всех..."
Спасибо, живите все.
Танька, Танюша, Ласточка,
хорошо-то как а? (...)
Твоя Верка.
Киев. 17 сентября 80 г.
(...) Ты не любишь дождей. Ошерова любит. Я люблю спать в дождь. И мне хочется русской печи, серого кота, ласково ворчливой хозяйки и оторванности от призрачного мира. Не в тот мир хочу, где нет ни печали, ни воздыханий, а в тот, где пробуду хоть несколько дней очарованная Русью, лесными полянами, серыми избами.
Холодный дождь города, серые трамвайный остановки, движение утренней толпы нагоняют на меня тоску. Мне вдруг холодно стало. О, если б можно было отрешиться, воспарить, улететь на несколько дней (...) где ты?
Ты вдруг видишься мне в длинном сером платье с глухим воротником, и одна жемчужина на нём, и вся ты тихая, отрешённая, печальная, мне крикнуть хочется: не мучь себя, ты прекрасна, ты дорога мне, ты очень, очень мне дорога.
Ведь нет чистоты такой высокой, как твоя (...).
Не смотри так печально, а то я не прощу себе своей обычности, привычности, правильности.
Родная, дай взглянуть на тебя и знать, что я прощена, я, не понимавшая тебя (...), иди только рядом со мной по московской улице -- и подойдём к Гоголю, хорошо? Милый мой, мой мятущийся, мой русский-прерусский человек, я хочу, чтоб тебе было чуть-чуть полегче. (...)
Как хорошо, что ещё есть дети. Счастье их -- в незнании, мудрость -- в незнании; наверное, я уже им завидую, потому что могу ещё работать, даже выделять какую-то там энергию, чтоб "они потлели" (какая мудрая девочка Надя), но нет во мне молодой веры в себя. (Речь о спектакле Чхаидзе -- памяти Нади Рушевой. =Т.Н.=).
Да, а Оксане у Вахтанга нравится. И я очень рада.
(...)
Родная, помни меня.
Твоя В.
25 сентября 80. Киев
(...) А Колесова я вспоминаю. (...) Он подвижник и сделал всё, что мог. И больше, чем мог. Ведь не сомневаюсь, что его жизнь была бы доброй, разумной, обращённой к людям и без музея. Читал бы лекции, собирал картины, радовал бы людей. А он ещё сделал музей. При всех тревогах и заботах у него было сознание нужности людям того, что он делает. (П.Ф. Колесов -- лектор общества "Знание", создатель музея Танеева. =Т.Н.=) А это дорогого стоит (И. Завидовский).
Бывает, трудно представить умершим человека. Вру. Всегда мне это трудно. И Колесова трудно представить уже не живущим. Что-то славно круглое в нём было, ладное, доброе. (...) я верила бы в рай для него. Буду, буду поминать, мой дорогой ребёнок, буду.
(...) Ивану Сергеевичу я напишу. Адрес я заказала, обещали, что к концу сентября будет. (И.С. Завидовский -- старый воронежский врач, рыбачивший на Дону. =Т.Н.=)
Милая моя, Заинька мой, скоро увидимся? Не будем загадывать пока.
(...) Вера.
8 октября 80. Киев
(...) Милая, лапушка, себя любим? другого любим? Всех любим. Себя, себя в тебе, тебя в себе и просто тебя.
Потом у что -- м о р ё в тебе всего, --! Помнишь, чьи это слова? А ведь когда и бабок деревенских люблю, то детство своё в них люблю, Клин, русскую речь детства,
так разве от этого любовь меньше? (...)
Да, она, эта любовь, не жертвенна. Я ничего для них не сделала. Пока всё они делали для меня: жали в зной, пахали на корове, мох в войну ели; убивали немцы их и их сестёр.
Моя любовь к ним -- просто любовь. Я могу только быть почтительной, видеть и понимать (...), что они хранители языка, песен, жизни!
А ещё там, в жизни, которой я не знаю, есть и тёмное, да?
И не надо вопить в восторге (...) но мне всё ещё хочется любить. Без трезвости.
Сегодня отмахиваюсь от вопросов.
Утром я вдруг представила себя деревенской девчонкой 13 века, которой грозит Орда. И мне стало страшно от моря огней и скрипа телег.
Скрипят телеги, словно вспугнутые лебеди...
Во мне кровь этих людей, и во всех нас их кровь; прошли века, мы стали сложнее?
А ведь вот надпись из 12? 13? века: "Отчего страждешь? Не молишься Богу своему? Отчего добра жаждешь, сама добро не творя?" Он обращался к своей душе.
Не умнее ли меня он был?
Умнее, и рефлексия его разъедала, и понимал он, что дело человека -- творить добро.
Ты говоришь о доброте моей.
Во мне ещё нужно разобраться. (...)
Нет, Заяц, есть случаи, когда я не бегу навстречу именно тому ближнему, который больше других нуждается во мне.
(...)
Целую, целую, буду писать. (...) Твоя В. (Л и с а)
(Тогда же. Продолжение)
(...) сегодня перестала бояться петь при тебе, и видишь: пишу второе письмо. Милая моя, родная, напишу Елене Сергеевне, хочу написать. Видела её в (кино)журнале "Музыка", снимали сюжет, наверное, ещё при жизни Колесова. Она вела экскурсию. А я тоже рада, что успела услышать его, слава Богу, что успела (...).
Сегодня была у Светки (С.Я. Карпиловской. =Т.Н.=) Она всё-таки хочет уйти из института, уйти, потому что ей надоела имитация науки, научности. Ей тяжело на защитах диссертаций, ей скучно думать, что надо засесть на три года и писать никому не нужную работу, ей хочется работать с детьми.
И я понимаю её, но хотела бы всё-таки, чтоб она поработала в Москве или Ленинграде, -- она считает, что это уже поздно.
Вечно мы думаем: поздно, да нет, совсем не поздно, но я ушла, не переубедив её.
Она вылечила мою зубную боль, и я договорилась, что она займётся моими нервишками. (...) Потому что срываюсь. (...) И пытаюсь себя утихомирить. Изредка удаётся.
Маленький, уже первый час. Холодильник шумит, а ветер-то улёгся.
Спи, дружочек, спи (...), ты солнышко нежное, приветливое, весеннее.
Таня, Танечка моя добрая.
Твоя Вера.
Октябрь 1980. Киев
(...) Читаю сейчас прозу Брюсова, "Алтарь Победы" из римской жизни IV века н.э. Христианство там -- сравнительно новая религия, и живёт ещё (...) вера в прежних богов. Странно воспринимаю эту книгу, в ней тонкость и необычность жизни древней, и, несомненно, видел он в падении Рима что-то общее с тем, что происходило с его миром, да параллелей найти можно каких угодно и с нынешним веком.
Но интересна мне героиня, наверное, интересная и автору, -- убеждённая, проповедница, прорицательница (...) Я завидую, Господи, как завидую людям, понимающим, что они правы, что есть какая-то предопределённость в том, что они делают.
Я не хочу плохо говорить о себе сейчас. В эту минуту мне тревожно и нехорошо, я оделась, побежала за твоим письмом, его нет. Милая, прости, я глупа, я необразованна, я разбрасываюсь, мне зачем досталась жизнь?
(...) если тебе, моему другу, я нужна, -- это какое-то оправдание моей жизни, но ведь это не всё. Страшно думать, как долго я живу, а надо ли было родиться?
Моему Коле Ерёменко эта мысль пришла в голову в 5 классе, насколько же я опоздала. (...)
15.Х. (?)
Танька, Танюша, прости этот бред. Только утром сегодня обожгла мысль (...): мне надо тебя увидеть, ужасно надо. (...) это просто вопли всё от разлуки. Ты мой берег в этой жизни (неохота её с морем сравнивать), ты надежда, ты огонь. Спасибо тебе за то, что столько раз ты убеждала меня в том, что мелочами жить нельзя. (...)
23 ноября 1980. Киев
(...) Да, альтруисты из института психологии жестоки, потому что благополучны,
М.-П. я ведь видела у тебя в младшей группе? Его совершенно не задела людоедская газета детей З.Н., он просто-напросто не понял, что тебя возмущает. (...) ну, пересказали равнодушно, без отношения к ним, фашистские стихи Алтаузена, -- всё это не вызвало беспокойства порядочной З.Н. и жизнерадостного, румяного А.А. (Речь идёт о перепечатке в стенгазете МГДП и Ш известного стихотворения о расправе красноармейца над "белыми" родными братьями. =Т.Н.=)
(...) Думать: в чём я виноват, а потом видеть вину других -- порядочно, конечно, но твёрдо убеждена -- это можно говорить только себе. Когда даёшь такие советы другим (подави себя), -- от них веет равнодушием: что ты лезешь ко мне со своими бедами, подави себя! Может, это не так грубо, как мне кажется, но я согласна с тем рано умершим поэтом:
-- стихи рождаются от боли2 -
и с дядей Мишей Дудиным:
-- от боли или от сочувствия, по силе равного боли, рождаются стихи, и с тобой:
-- наука в хвосте у искусства.
___
2 Вера слегка перевирает стихотворение 20-летнего поэта из Ростова-на-Дону. Безвременно погибший Боря Габрилович оставил такие строки в начале 70-ых:
"Стихи слагаются о боли.
И больше нет на свете тем.
Всё остальное - лищь обои,
Которые сорвут со стен".
Знаешь, всё-таки это (педагогика) не наука, ей-Богу! (...) разве можно втиснуть то великое, высокое, низменное, трагическое и смешное, что называется человеком, -- в формулы, формулировки и рекомендации. Слава Богу, что люди бывают всякими, а не следуют разумным предписаниям. (...) Возлюби ближнего, как самого себя! (...) альтруист, погибший за нас на кресте, признавал любовь к себе. (...)
(...) Твоя В.М.
25.XI.
(...) "Версию" смотрела (...) Помнишь, мы читали забавные сцены, где Блок развлекается: "Гейне в Англии" -- "Гей, не в ангелы", -- значит, мог и смеяться в кровавые, страшные дни.
У Эльки родился сын, она назвала его Ильёй.
26.XI.
(...) А Мать Марию (кстати, ставят фильм, и Володя Сосинский -- консультант) очень жалко. Отцом её дочери был Алексей Толстой, который не нашел ничего лучшего, как облить Блока в "Хождении". (...)
А где письма напечатаны?
Не сердись на Блока.
Ему тяжко было всегда, и нёс он эту жизнь, нёс, нёс, предвидел расплату и так расплатился тяжко. Но самая трудная заповедь -- не судите. Для меня.
В.
28 ноября 1980. Киев
(...) хорошая, умница моя, почему перестала писать? Жизнь навалилась? Танюша, я как-то не могу писать сейчас, не зная, что у тебя. Мне кажется, что обижу тебя легкомыслием или скукой своего письма.
Пытаюсь сейчас подготовить блоковский вечер, пока глухо. Когда самой всё будет ясно, тогда начнёт получаться. (...)
Пишу - тревожусь: что с тобой, что с тобой, почему нет писем так долго. (...) Родная моя, голубка, я жду твоих писем (...)
Светлый мой ангел.
В.М.
Киев. 28 ноября 1980
(...) В "Советском писателе" в 1980 г. вышла книга Ильиной "Судьбы". Это воспоминания о разных людях, мне дали её на полчаса, и я успела прочитать только об Ахматовой (и то не всё).
Оказывается, несмотря на царственный вид (когда она в Голицыно входила в столовую дома творчества, все замолкали), она была беспомощна в быту, нервна; Ильина говорит, что на неё находило безумие, когда ей надо было уезжать из Москвы в Ленинград, драма была во всём: искала что-нибудь -- билет и т.д., была не в себе, бледна, отрешена, напряжена.
И могла хохотать над тем, как Раневская пела на какой-то невообразимый восточный мотив её стихи, явно пародируя их страстность.
Ещё -- она возмутилась, когда какой-то девушке сказали, что она способный поэт. Она считала -- поэт или не поэт, а способный -- унижает слово "поэт". Вообще иногда я чувствовала ваше с ней родство. (...)
9 декабря 1980 г . Киев
(...) Я же отвечаю только тебе, а не "Дню поэзии".
М а л е в а В.В.. 42 года, г. Киев, учитель. I. В поэзии последних 3,5 десятилетий были Ахматова, Пастернак, Некрасова, Заболоцкий, Твардовский. Двух-трёх имён достаточно, чтобы помнить, что это великая русская поэзия. (Ахматова, Пастернак -- небожители? нет, глупо; отрешённые от суеты? Некрасова -- с её удивительной "русскостью", русской естественностью и правдой, Заболоцкий -- пока не вполне мой, не знаю почему, -- Твардовский -- разные, но с той мудростью, в которой много печали-боли). А ведь это ещё не всё. Когда "смежили очи гении", стало легче "относиться" к этой поэзии: любить -- не любить, относиться к ней с почтением или без почтения.
Как я отношусь?
(...) думаю, что наша издательская политика (практика) мешает созданию настоящей картины нынешней русской поэзии, надеюсь, что поэзия при этом выживет (при том, что в метрах (э-э) нынче ходит Евтушенко, испражняющийся (прости) на страницах центральных газет и раздающий свидетельства о талантливости.
Если честно: поэзия такой поток, такое море, что сказать, как отношусь, просто не могу. Из ныне живущих ближе всех мне Окуджава. Мир его высок, поэтичен, прост, обыден, прекрасен. У меня иногда сердце дрожит от какой-нибудь строки: "Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда", "Как матушкины слёзы, всегда она с тобой" -- это потому, что я сентиментальна до ужаса и легко плачу.
Тот глубинный смысл, что живет за его строкой (в "Ели" хотя бы), живёт так естественно, так ненавязчив, что испытываешь счастливое чувство растворения в его поэзии. Это светлый и грустный мир. Этот человек не может сказать всего ("пройдут века (?)-- напишут школьники в тетрадках, что нам сейчас не позволяет писать дрожащая рука"), но он не может сказать и неправды, он человек-поэт.
Самойлов мною был любим за "Пестеля", "Державина", "Сороковые - роковые", за иронию, изящество, лиризм и боль некоторых его стихов.
Соколов -- за чистоту лирического чувства (и тоже невозможность солгать ради публики, моды, времени).
Не называю Ахмадулину, потому что есть что-то отдаляющее её от меня, хоть иное мне кажется прекрасным в ней, она не моя; насчёт Вознесенского согласна с ругателями его, а для меня он человек -- не-поэт и поэт-не-поэт; к Ю.Кузнецову отношусь с почтением, но он силён, а я слаба, я квашня, и он тоже не мой, хоть его взгляд на мир мне интересен, а за "улыбку познанья... на счастливом лице дурака" я ему просто благодарна.
II. Как это ни ужасно, роль поэзии в современной жизни???
В какой жизни? Где кто-то может швырнуть бомбу, где возможно нашествие, усмирение народов военной силой, где герои нации -- футболисты и эстрадные певцы? А учителя жизни -- Асадов, Евтушенко, Кобзев?
Поэзия выше учительства. Когда это выстраданное -- восстань, пророк, -- или иди к униженным -- это, наверное, прекрасно, а когда это расхожая мудрость (...) последние стихи в "Комсомолке" читала? О Радищеве, Рылееве и директоре хозмага? Ужасно то, что это читается и очень многими считается поэзией (ведь людей так много, докажи, что это н е поэзия им -- ведь всё, что в рифму, -- стихи).
Так вот.
Назначение поэзии -- пробуждение и возвышение души, чувств, а не внушение определённых установлений. И в этом смысле патриоты -- хранители языка и традиций великой русской поэзии, а не те, кто вопит о своём патриотизме (Кобзев и др.)
III. Тема Родины -- Рубцов, Кузнецов, Окуджава (я что-то не то пишу, но не знаю, как объяснить, почему они больше от Родины, Родина, чем декларирующие любовь к ней).
Родина -- Россия, прошлая война, прошлые века, русская культура, боль народная. Это слишком много и слишком больно -- Родина.
IV. Песня.
(...) Иногда пишут песни на хорошие стихи (вроде "Одиночества" Ахмадулиной).
И тогда бывали пошлые песенки:
(...) "Так зачем в душе и в шкафу хранить
вашу записку, несколько строчек..."
И сейчас есть, только пошлость поукрашенней бывает. А хорошие песни на хорошие стихи и тогда были и сейчас есть. (...)
Твоя Вера.
24.12.80. Киев
Глупенькая, глупыша, прелесть, радость моя и жизнь, мой дружочек (...)
Пишутся стихи, слава Богу, стучу по дереву (...) милая ты моя. Зайка, прости меня, опять: даст Бог -- свидимся.
(...) Родная, как близко всё, неужели эта белая ночь -- псковская, северная -- светлая -- 1976 год?
Милая, милая, сероглазая девочка, моя девочка-жизнь, спасибо.
Твоя В.
P.S. Танюша, у тебя есть Золотусский, "Монолог с вариациями"?
17 января 1981. Киев
(...) Бог знает, что с душой. Вдруг начинаю верить, что она есть, отдельная от меня.
И что где-то есть клинская девчонка, склонная к грусти и нытью, завидующая смертельно лучшей подруге, потому что её все любят и везде выбирают. Я была плохой. И прекрасное во мне разглядела интеллигентная, растрёпанная, с орденом Ленина Анна Ивановна Воронкова, пишу "прекрасное", потому что это из неё. Мою характеристику она кончила словами: "...таковы черты её прекрасного облика". Мама прочитала и сказала: уж слишком хорошо.
Я тоже удивилась и решила стать такой же прекрасной, как Наташа Чурочкина.
Было мне почти 12, я всерьёз решила стать хорошей.
Стала я хорошей? Наверное, но многое осталось во мне, не замечаемое мною: зависть к красоте, я подавляла её (зависть), но она была; суетность, суесловие, да и ещё грехи были, это я привожу ещё самые симпатичные.
(...) время от времени во мне затихала внутренняя работа и раздумья, я казалась себе вполне хорошей и счастливой.
(...) Теперь я не та, я не верю, как в молодости, в необъятность своего мира и своего разума, во мне исчезло навсегда счастливое сознание своего бытия: живу! какое счастье! солнце! и дождь счастье! О н меня не любит, ну и что! Сегодня страшно, безысходно, горько, а ведь завтра всё равно захочется стоять на голове от счастья!
Прошло. И та моя душа живёт отдельно от нынешней; где, в ком живёт?
На свете счастья нет. Но нет и покоя (не говоря уже о воле).
В юности я верила Петру Ильичу, программе 4-й симфонии. Потом и это прошло. Было ощущение счастья, когда глаза закрываются, будто от солнца, и признать жизнь только тяжелой действительностью было невозможно, сейчас возвращаюсь на круги своя, опять к н е м у, а что там впереди -- не думать! Родная, прости, что так долго неизвестно о чём, то есть о себе.
Милая Танюша, Татьяна моя, поздравляю тебя, детонька моя, с Татьяниным днём, подумай немножко обо мне. И ткнись носом в щёку. Я почувствую. Твоя В. (...)
28 февраля 1981 г. Киев
(...) где взять безоглядную радость молодости? Мне уже не взять. (Господи, как я ожила на днях от проблеска радости: швырнула в 10-классника снежком, а он в меня, и мне вдруг так хорошо-молодо стало на несколько мгновений).
Как необъятна бывает радость и как необъятно страдание, когда жизнь кажется безбрежной, а сейчас то далёкое 18-летнее страдание -- боль и радость, -- то была жизнь, а нынче тоже жизнь, но уже ограниченная, заталкиваемая в рамки разными немилыми людьми. (...)
Киев. 4 апреля 1981 г.
Родная моя,
ты уехала, хорошо, что на перроне остался Вахтанг. Его присутствие избавило меня от чувства потерянности. (...)
На следующее утро родились котята. Четверо. Беленькие. Слепенькие. Очень трогательные.
Мурила влезла под моё одеяло, улеглась совсем по-человечески головой на мою руку и начала по-собачьи часто дышать. Я поняла, отнесла её в мягкую коробку, зашла минут через 15: мокренький котёнок с крысиным хвостиком тыкался глупой слепой мордочкой в её шерсть.
Они ещё не "расслепнули" (так говорит наша Анька), трогательно жмутся друг к дружке и смешно иногда борются за место возле мамки. Милая моя, прости меня, всё боюсь, что неинтересны тебе мои восторги и котята (...).
1-го приехал Вахтанг, привёз 60 билетов, пока желающих много, разобрали все, ужасно мне хочется ему удачи, он -- это тоже память о тебе; на вокзале он спросил: "Чем можно помочь Тане?" -- и я не нашлась, что ответить. (...) Но мне было ужасно приятно, что его взволновало твоё печальное лицо на вокзале: "Она была совсем другой в гостинице!"
(...) как хочется услышать твой соловьиный, ласкающий голос. (...)
Вдруг сердце дрогнет предчувствием: сейчас ей плохо (...).
Не сердись (...) солнышко, детонька моя.
Целую носик, мой русачонок сероглазенький.
Твоя В.
Киев. 8 апреля 1981 г.
(...) как будто весна пришла с твоим приездом, как будто светлее стало, слава Богу!
Спасибо тебе, родной человек, мне не легче жить -- мне есть для чего жить, а главное -- кем жить. Спасибо.
Рада твоему письму (...).
(...) Трудно противостоять потоку. Хотя хочется.
В следующую субботу мы с Володей Ульченковым делаем Блока при свечах, с Гамлетом и Офелией, но в 194-й было больше детей, для которых это было бы отрадой и волнением, а здесь приходится пахать целину, нет традиций. (...) я думаю, что работать должна я, а всё без родной души трудно (...)
Вера.
Киев. 12 апреля 1981 г.
(...) Вчера получила "красное" письмо. Ты несомненный художник, можешь не соглашаться и говорить что угодно. Ты художник. Ты должна всё облечь в форму. И Глушкову, бегущую через пути, и заученно улыбающуюся Флору, и сон о Глокой Куздре.
Хочешь, соберусь с силёнками и напишу работу "Композиционные особенности писем Т. Никологорской"? Или -- "Лексическое богатство эпистолярного наследия Т.Н."?
Не хмурься, моя родная, я почти не шучу, я читаю письма и думаю: художник, и как всё это выдержать: контору, 6 кружков, командировки, ноющую, киснущую, любящую Малеву --
и Муза ещё -- страшно подумать, как много должен выносить человек. Ты, родная моя, с такой перегрузкой моральной, что тут скажешь о священной жертве Аполлону? Это как-то даже странно звучит. Какая священная жертва? "Работает в поэзии". Может, так и лучше. А только мне не по себе. Я почему-то вижу сразу измученного человека. Да и в первом случае (с Аполлоном) -- тоже измученного. (...)
Читаю Астафьева. От "Последнего поклона" реветь хочется. Росла- росла сибирская Русь, и вот тебе сказалась Шукшиным, Распутиным, Астафьевым. Невозможностью солгать и болью, "болью о человеке". Этот ребёнок- сирота с какою-то болью в меня входит, не могу подолгу читать. Как будто вдыхаю эту тайгу, с дорогой, заросшей гусиной лапкой-травою, -- а не могу подолгу всё видеть и слышать, ощущать этот трагизм повседневности. Стара я, слаба на слёзы (...).
Милая, прекрасная моя подруженька, ради Бога, не кори себя из-за меня.
Ты ни в чём не виновата передо мной.
Ты дала мне сознание огромности, правды и счастья нашей прекрасной дружбы, меня тоже никто не будет любить так преданно и верно. (...)
До свидания, мой хороший.
Котята кланяются тебе, у них славные морды, а кошка -- чудная мать.
В прошлый раз она вела себя куда легкомысленнее.
(...) Твоя Глокая Куздра с бокрёнками.
Киев. 19 мая 1981 г.
(...) Как трогательно ты просишь меня быть не такой усталой, быть молодой, стройной, задорной; маленькая моя, постараюсь, буду очень-очень стараться, вовсю высплюсь, похорошею, подобрею и похудею (бельведер мой, бельведер!)
Милая, милая, пройду ли я, как прошла музыка в тебе, -- не знаю.
Трудно и не хочется предугадывать. Я долго раздумывала над этой твоей строкой. И ничего не придумала, кроме того, что не пройду, не верю (...)
Понимаю, что и музыка не прошла в тебе, и юность всё ещё не прошла, может быть, поэтому временами так страшно и сильно ты чувствуешь отсутствие гармонии в мире, -
пройду ли я?
Если пройду, отнесёмся к этому мудро и благословим всякое время в дружбе (...), всё пусть будет свято, прекрасно, памятно.
Ты оправдываешь меня в отношении к этим детям моим и пишешь, что на внеклассную работу нет времени и сил.
Нет, миленький мой, я уверена, что литература не может быть без этой внеклассной работы, поэтому я барахтаюсь, как черчиллевская лягушка, и пытаюсь сбить масло. Тонуть в обыденности мне не хочется. Детям нужен праздник приобщения к литературе, есть дети, для которых этот праздник вне урока, только вне.
У меня есть в одном из 10-х полуслепой Биденко Серёжа, двоечник, немножко прогульщик, немножко разбойник, он не гордость моя, нет, смешно говорить, но он человек, который даёт мне уверенность, что я зачем-то ещё нужна, что если не смысл и не содержание моя работа может дать хоть одной жизни, то хоть какую-то радость дать ей, какое-то чистое волнение внести в неё, и сознание нужности.
Сейчас идёт полоса разобщенности с моим классом, т.е. отношения внешне доброжелательны, но наиболее яркие люди, увы! -- ближе к своим машинам, тряпкам, валютному магазину, чем к радостям духовным.
И хоть я воспитана в педагогическом смысле так, что сначала задаю вопрос: а в чём я виновата, всё-таки здесь я вижу и то, в чём виновата жизнь какого-то слоя людей, не понимающих, что "не в шляпе счастье" (лозунг, висевший в Киевском отделении АПН).
И всё-таки кое-какой оптимизм во мне ещё есть. Есть у меня два близнеца (мама -- одиночка, уборщица), и я вижу, как интеллигентны оба мальчика, интеллигентны в самом прекрасном значении этого слова: воспитанны, добры, мягки, тянутся к знанию (не в школьном смысле этого слова). Саша Бедов мне напомнил, глядя на них: "Помните, В. В., вы говорили, что для учителя счастье, если он воспитал хотя бы одного своего ученика. Посмотрите на этих ребят." Я честно призналась Саше, что их мама воспитала (а всё-таки чуть-чуть и я; это я про себя подумала!)
Но я отвлеклась.
Нет, без литературы вне урока я не могу. Я всё время что-нибудь делаю, Заяц.
Мне одна вздорная тётка сказала: "До Вас у нас была хуторская Украина". (...) Я, ей-Богу, не хвастаюсь, но просто в 194-й у меня были дети, воспитайные другими школьными и домашними традициями, поэтому и работает у меня Володя Ульченков, поэтому и Сашка выступал в прошлом году и однокурсников приводил,
а здесь -- не тот уровень, я вижу лучших учеников этой школы прошлых лет, ставших здесь учителями, -- они гордость школы и т.д., но их потолок -- добросовестность, привязанность в литературе -- Симонов (стихи) -- что во мне не вызывает протеста, насмешки и т.д. -- упаси Боже! Но с развитием у них плоховато. (...) А всякая "деревенщина" -- Астафьевы и т.д. -- это вообще (для них) не существует.
Опять, Заяц, не сочти меня снобом-снобихой, я ценю людей за их нравственные качества и совсем не собираюсь их осмеивать по той причине, что я Достоевского читала, а они нет. Ерунда. Я их ценю за то, что они хорошие люди, но не лучше ль наливать вино в бокал?
Кстати, обратила внимание в "Литобозе", о котором ты пишешь, на Н.Беляева, представленного Самойловым:
"Обломовщина или
пугачёвщина,
а третьего нам даже
не обещано.
А кто задумается, заклеймим:
Толстовщина!
А то и пострашнее:
Достоевщина!"
Всё, мой сероглазый.
Прости беспорядочность изложения.
Уж полночь минула, по новому стилю 15 минут первого, коты спят в письменном столе, что-то гудит за окном,
спокойной ночи, родная, добрый мой дружочек. (...)
Вера.
9 июля 1981 г. Киев
(...) Пока живу, ты во мне. (...) ты мой воздух, Таня. (...) Потому, что ты для меня нравственное мерило слишком многого. Т.е. не многого, а главного: зачем живу.
Мы можем не соглашаться в чём-то неглавном, но ты мой берег, моя звезда, моя вершина,
ты не сердись и не отказывайся, не уговаривай меня не думать так.
Ты ко многому зовёшь меня и оправдываешь многое. Я напишу тебе подробнее, моя ласточка.
Спасибо за трогательное участие.
Поцеловала глазоньки твои на фотографии -- и легче стало.
Твоя В.
5 октября 1981. Киев
(...) папа Гейченко когда-то написал мне: спаси. Боже, прелестную другиню мою (..)
Родная, ты относишься к нему объективно, добро, он вряд ли заслужил это от тебя, но у тебя есть удивительная способность не то что прощать, а видеть большое в людях и отметать мелочи (и не мелочи тоже), даже если они ранят тебя. Это прекрасное и редкое качество: забыть об обиде.
(...) не сомневаюсь, что дурного отношения нет, а есть некрасивая и не красящая его небрежность и глухота (она есть у него и в отношениях с другими людьми). И при всём плохом, что я знаю (...), человек он необычайно яркий, увлекающийся по-детски, мудрый, страдающий, щедрый, чёрствый, вздорный, грубый, мягкий, дитя и старик.
Ох, какая это тяжкая заповедь: не судите, да не судимы будете. (...)
И о Вахтанге я думаю, что Оксана увидела его другим, чем мы, -- он и таким бывает, каким она его увидела, и таким, каким м ы видели, и очень может быть, что она ошибается, считая, что ему нравится вызывать страх.
Она говорит, что у него было умение вызывать их на "философствования" (...), за это она ему благодарна.
А недостатки его, мне кажется, ещё и от молодости и неопытности, оттуда же и крики и "комке (то ли клубке) обнажённых нервов".
Мир, я думаю, устал от напряжения и тянется к доброте. И, наверное, Вахтанг добр. И старается нести добро и что-то там сеять (выспренних слов не хочется говорить, мало я его знаю).
И слава Богу, что живут ещё бескорыстные сеятели, разные, и Кабалевские, и Виноградовы, и Никологорские, и аз грешный (хоть я не бескорыстный, у меня зарплата выше средней). Ты прости, что я себя в тот же ряд, что и Кабалевского, невообразимое нахальство, просто я вдруг себя ощутила проповедником и носителем добра (...).
23 октября 1981 г. Киев
(...) несколько раз приходил Меньшов. Наверное, я говорила о нём. Давным-давно Ошерова работала в школе. У неё был талантливый ребёнок Юрка Меньшов. Ошерову он звал Елизаветой Григорьевной, а меня -- тётя Мальва. Было ему 17, а мне 25. Он учился в лесотехническом и бросил, потом лесником и егерем, работал на Пинеге в леспромхозе (...), стал вальщиком леса высокой квалификации. Два раза женился, но не очень докучал своим жёнам: в Киеве почти не жил, и они его оставили.
Человек он честный, искренний, трудящийся и бездомный (своя квартира у него есть, но он бездомен, безбытен: нет денег -- идёт грузить лук или разгружать лук, получает 15 р.) И садится писать прозу, пишет, вечером выходит из дому суёт нос к кому-нибудь из друзей: идём ко мне -- есть лук, вымя, помидоры (накрал при разгрузке -- вкусные!)
-- Куда бы повести твоих детей?
И ведёт в Ботанический сад и читает -- нет, не читает, конечно, лекцию, а блестяще говорит о деревьях, а мои малые носятся как угорелые, то слушают, то не слушают, а я наслаждаюсь.
Потом они садятся и по звуку определяют, какой самолёт летит, потом рассказывают детские анекдоты, потом он разрешает им пробежать по стене и перелезть на асфальт по ветвям ивы,
дети забегают в кафе и тащат кексы и белый хлеб с горчицей, одна девочка не ест, он выгребает последнюю свою мелочь и отдаёт потихоньку мальчишке, чтоб он купил ей кекс, и Валька-цыганочка болтает ногами и тоже ест кекс и хлеб с горчицей, а Меньшов переводит нас через дорогу, ждёт, пока после горчицы напьются все дети (ещё и не по одному стакану!) и едет к маме.
Позавчера пришёл. Приехал из Брянска. Привёз Тютчева, такого, как ты мне подарила.
-- Мамка, пойдём ко мне ужинать.
Я кормлю его, чем Бог послал, он рассказывает, как он валил лес в Брянской области, читает по памяти начало рассказа, а потом:
-- А куда мы твоих детей поведём?
У Юрки голубые -- не твои, нет, но чем-то напоминающие твои глаза, когда они вдруг становятся круглыми.
Ему сейчас одиноко. "Видно, я не могу иметь семью, как и моя учительница". (Ошерова и Алик разошлись, мне печально, потому что Гришка любил Алика и называл отцом. Меньшов здесь резок (...).
А я постарше, жизнь меня пообмяла: называл, потому что хотел, чтоб был отец).
(...) В общем, Меньшов пишет прозу, недоедает, готовится в Литинститут, хочет зиму прожить в Михайловском, поработать в парках, лесах и писать. Дай Бог ему всякого добра.
И нам с тобой дай Бог. Дай Бог увидеться в ноябре хоть 2-3 дня. Малыш мой, обратный билет мне нужен на 8 вечером, чтоб 9-го я была в Киеве (...).
Твоя В.
Сентябрь 1982
(...) Вечный мой комплекс -- вины перед всеми -- со мной, вечная моя грусть -- тоже, и болей много -- не потому, что я хороша, а потому, что счастье юности минуло, счастье молодой зрелости -- тоже, а проза житейская пытается добить в тебе человека, надо топорщиться, вставать на дыбы и победить.
Милая, прелестная Наташа Колыбина спросила: "Стоит ли читать своим детям Экзюпери? Ведь понимаешь, какая это неправда".
Стоит сохранить в себе Экзюпери и читать его детям.
И если не вполне сохранил -- ведь и это бывает почти со всеми, -- то надо барахтаться, вздыматься с волной, и не утонуть.
Жаль, если Наташа утонет в благополучии людей теперь её круга, рядом с симпатичным, благополучно-комсомольским мужем,
а хочу ли я для неё бурь? -- вряд ли.
Жив ли во мне Экзюпери? Haben sie die sohne im Herzen? (Есть ли у Вас солнце в сердце? -- надпись на сентиментальной немецкой открыточке).
(...) А Наташа Ростова вовсе не глупа. "Она не удостаивает быть умною", т.е. не снисходит до этого, а что за прелесть эта Наташа! "Давно я ждала тебя", -- сказала эта девочка своей просиявшей из-за готовых хлынуть слёз улыбкой". (...)
А чувство, которое испытывает Ник., когда ждёт мать, даже не ждёт, а чувствует её приближение -- это писал человек, не знавшей своей матери!
Всё. Не говорите, дорогие мои, хорошие, о "Войне и мире", а то я не остановлюсь. Это пока 1-й том, а я могу пересказывать все 4.
...А дворовые с торжественными лицами, несущие диван для маленькой княгини? А этот дом, ждущий рождения ребёнка, и плчущий старик Болконский? Всё, душенька, дружок, не могу даже обещать, что больше не буду, слишком люблю этот роман (...)
7 октября 82. Киев
...Я очень жду твоих писем и тебя. То ты входишь в класс, то ты вдруг в моей комнате, твоё лицо в утренней мгле. Не сердись на меня, ты очень хорошая, ты добрая, ты чистый человек, ты мой друг (...).
Ты несёшь в себе страдание от неправды, от нечистоты, ты бьёшься о жизнь и получаешь раны, они болят и мучат тебя (...).
(...) мне кажется, что единственное моё спасенье сейчас -- спрятаться в тебя и выреветься. (...)
И от сегодняшнего письма я перепугалась, родная, легче ли тебе сейчас, когда я говорю с тобой? (...) написала, побежала звонить, -- частые гудки.
Как далеко Москва, как далеко!
(...) свет мой, мне трудно без тебя, сердце побаливает (...), не бойся только, это не очень серьёзно -- временно. Неглубоко. Сама вылечусь.
Детонька, напишу ещё! (...).
Киев, 27 октября 82 г
...Папе сейчас очень плохо. Он не спит несколько ночей, его мучат боли. Были два врача. Ему кажется, что после их прихода стало ещё хуже. Сегодня вечером он сказал мне: "Хоть бы смерть пришла". Я разревелась (...).
-- Бог милостив, -- ты всегда говорила. Будем верить, что это так. (...)
Таня, Таня, милая, не звони пока; Бог милостив, мы встретимся, а нынешние дни надо пережить (...).
Всё есть во мне, ты друг навсегда, и я твой любящий, верный и родной человек, прости.
Целую твои глаза и руки
Вера.
Ноябрь (?) 1982 г.
(...) что ты для меня -- не рассказать, не спеть:
ты -- это полнота и чудо жизни, полной любви и света;
Бога -- не иконного, не судью,
а Бога животворящего, милостивого, любящего -- благодарю за тебя, за чудо встречи с тобой во вселенской гостинице. И псковской.
(...) пусть не мучат тебя разногласия из-за Татьяны, Анны, Емельяна.
Мы ближе, чем тебе кажется.
Я не хочу, чтоб Татьяна бежала с Онегиным. Она не могла этого сделать. Она идеал. А это был бы поступок против её совести. Она должна была остаться той Татьяной, недостижимым идеалом; одной строчкой А.С. убил меня и выразил совершенство её: всё тихо, просто было в ней -- по-моему, это потрясающе.
Повторяю и не могу наслушаться. Это Уланова, эта Ариадна Викторовна3, это совершенство, лишённое суетности, это высшее проявление красоты. Нет, она не должна никуда и ни с кем бежать. В ней совершенно и чувство чести, и не боязнь светского суда, а скорее высокое чувство достоинства заставляет её не давать повода для суда.
Я, в отличие от Ф.М., люблю и Онегина. Думаю, что упрёки Татьяны несправедливы. Что ж, она, хоть идеал, а всё-таки и человек, и женщина, и слёзы льёт рекой, и больно ей, что не полюбил он её тогда, когда пламя в ней горело, а полюбил её -- уже защищённую, признанную. Всё понятно. Пусть упрекает, она всё равно чудо и совершенство.
А его тоже люблю, в нём тоже чувство чести, забывают, что он умирал от любви, что он возродился любовью и для любви, а не требовала (...) побега или тайной любви. Он не соблазнял, не ухаживал, он любил и не мог рассказать свою любовь, за что ж в него камни швыряют:
"Татьяна разгадала эгоистическое чувство, лежащее в основе" -- и т.д. (из старого учебника).
Нет, я его люблю. Он дитя века, русский человек, пусть европеец, пусть оторванный пока от почвы, но русский человек, какого-то, определившего его суть, времени, круга; несчастливый скиталец, кто знает, роман не кончен, а путь у него мог быть.
Русский тип многообразен. В том, может, и величие его, что он многообразен, мирообъемлющ, что он и в Татьяне, и в Онегине, и в Ленском, и в старухе Лариной тож. И в дворовом мальчишке.
Прости, родная, наверное, тебе это неинтересно и кажется, что я ломлюсь в открытую дверь.
Я люблю А.С. Пушкина, я люблю "Онегина" -- и посвящение, и легкомысленные ножки, светло-печальное "на жизненных браздах мгновенной жатвой поколенья" -- Боже ты мой; и всё, всё, всё, и всех, всех, всех,
даже мосье Трике (...).
Декабрь 1982
(...) Плохо ещё то, что вероятнее всего, разведётся с мужем Элька Е. Она ведёт себя мужественно, но по вечерам с ней истерики. Женя, её муж, приехав из Тарту, сказал, что он не готов к семейной жизни, потом сказал, что передумал, потом опять сказал, что не готов, и живёт у родителей; Линка подала заявление о разводе, она не хочет зависеть от смены настроений Жени.
Ты была права; в 18 лет человек не может взять на себя настоящую заботу о ребёнке, я ещё пыталась спорить тогда: а вдруг исключения бывают. Может, и бывают, но здесь эгоизм молодости и маминого - папиного воспитания победил.
На меня эта история подействовала нехорошо. Элька -- дорогой мне человек, славный, умный, бескомпромиссный (...), я верила в её счастье -- в долгую любовь -- и вдруг так прозаично: человек, имеющий двухлетнего сына, не может переступить через себя, свои неудобства, труды -- я не сужу сурово, мне просто больно думать, что Эльке тяжело; её любовь не прошла ("Я истратила на него столько душевных сил, что не могу его разлюбить"), что Илья будет без отца,
__
3 Урождённая Чернова, жена репатрианта В.В.Сосинского.
а я насмотрелась на детей без отца. И видела их лица, когда отцы приходят вдруг, вспомнив, что у ребёнка день рожденья.
Ты писала, что согласилась с моим мнением о мужчинах.
Знаешь, может быть, я и права. Глухота их, неумение войти в мир другого человека с любовью и сочувствием, умение отмахнуться от чьих-то переживаний во имя -- чего? -- дела? --нет, чаще всего, своего душевного благополучия.
Исключения, вероятно, бывают.
Родная моя, я отсылаю это скучное письмо, не суди меня за него строго. (...). Вот что мне сейчас будет тяжелее, чем твоё недовольство мной: то, что оно мучительно для тебя.
Лапушка моя, Зайка мой прекрасный, я буду тебе писать всегда и чаще, чем всегда.
Только прощай меня. И за сюсюканье тоже. Оно выливается иногда вдруг даже от тяжести будней и наполненности их не всегда работой; вдруг -- ты -- так ярко вспыхнешь в сердце, в памяти, что трудно это вспыхнувшее сдержать.
До свидания, друг мой родной...
Декабрь 1982 (?)
Лапушка моя,
холодает, листья падают, а где-то есть тепло и три разноцветные свечи, ёлка и апельсины. Милая Танюша, будь здорова, родная моя...
Декабрь 1982
...не буду больше спорить, идеализирую тебя или нет (совсем не идеализирую, ей-Богу, ну, может быть, чуть-чуть только) (...). Маленькая, не заставляй меня что-то увидеть или оценить по-другому. Нашей дружбе седьмой год, ты показалась мне чудом 2 июля, нет, 3 июля 1976 года, до сих пор я так думаю, зная тебя столько лет. Мне не хочется заставлять себя думать по-иному.
Ведь я вижу, как неожиданна ты, как глубока, как умна (...), как я не понимаю говорящих об однообразии, скуке и скудости жизни -- оттого, что есть ты (...), есть ты, точка в пространстве -- иногда страшном, тёмном, а ты светишься, греешь, ты -- смысл, ты -- вера в мою нужность, в то, что есть высокое и прекрасное в жизни вообще и в моей жизни.
Родная моя (...), я уже не проживу без твоего тепла, без твоей заботы...
28 февраля 1983 г. Киев
(...) прости меня, не могу пока писать: у меня в классе умер мальчик, Саша Руденко, 12 лет, крепкий и здоровый ребёнок.
Я думаю всё время об этом. Почти всё время. И вижу его, и вспоминаю. Я не должна была бы тебе об этом писать, но ты прости. Зайка, милый, хороший Зайка, спасибо тебе, я каждый день получаю от тебя какие-то светлые открытки. Спасибо, малыш. (...) Будем жить, дружок, хоть это бывает и тяжело, и печально. (...) Таня, была бы ты здесь, ты что-нибудь сказала бы мудрое, спокойное и утешающее.
Ты мое утешение, моя опора, мой друг. (...)
(ОБРЫВ В ПИСЬМЕ. Т.Н.) (...) они собрались в классе: "Можно мы посидим немножко?" А Саша Соловей, друг Руденко Сашка, спросил меня: "И значит, уже всё? И там уже ничего не будет?" И одни плакали, другие молчали с каким-то недоумением и подавленностью. "А может, это ещё ошибка?"
Диагноз оказался -- общее заражение костного мозга. Может быть, и без ошибки первого врача (она ничего не прописала, кроме компрессов) спасти ребёнка не удалось бы. Но боль страшная: за что наказана эта женщина, взявшая на себя воспитание сына, потому что муж унижал её и Сашу, бранился, пил; она развелась, ушла в другую квартиру, заботилась о нём, помогала классу, покупала книги: "Я хочу ребятам отдать, я ведь это ему на будущее покупала. А кому перевести его газету и журналы?"
На карте полушарий надпись Сашиной рукой: "РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО."
(...) Детей надо защищать, любить и жалеть. Всё остальное тоже нужно: воспитывать, учить, требовать, быть строгим, наверное, но надо любить. (...) Пусть будут дети, пусть живут дети, разные, шумливые, умные, (Сашка умный был), глупые, раздражающие меня, пусть живут. (...) Может, в Корчаке -- в отличие от оптимиста Макаренко (...)-- была такая боль ещё и потому, что он был врачом и знал, что дети смертны. Я впервые это увидела по-настоящему. (...) Дай Бог, дай Бог тебе всего доброго. И пиши мне. Пиши. И люби меня, свою сестрицу.
Твоя Вера.
Март 1983 (?) г. Киев
(...) поняла как-то очень ясно, что значит любить-жалеть. Это самая прекрасная любовь, от неё сердце щемит, болит, сжимается -- и что там оно ещё умеет делать? -- и народ мудро прав: она его жалеет, о н её жалеет. Как раньше так до боли ясного этого чувства не было во мне.
Лука, конечно, мой человек, меня в молодости этим упрекнули на комсомольском собрании, -- Господи, и молодость была, давно была, а я и сейчас бываю молодо глупа.
Солнышко моё ясное (месяц мой ясный), душа моя, трогательный и прекрасный мой друг, прости меня! Я опять буду писать, я вышла из тяжкой тоски. (Причина -- болезнь родителей. Т.Н.)
Ты когда-то мне сказала об одном моём страхе: "Это немужественная позиция" -- и меня поддержала...
(ОБРЫВ ПИСЬМА. Т.Н.)
Март 1983
...Родная, ты иногда тоскуешь рядом со мной и не находишь отзыва своим мыслям. Тебе хочется сложности, высоты, глубины, а рядом купецки-благодушная толстуха.
Лапушка моя, мы все по-разному устроены, мне много вдали от тебя перепадает грустных мыслей и раздумий; рядом с тобой -- мне хорошо оттого, что ты есть. (...) В тебе столько красоты, чистоты, силы, правды (...)
Отчего наши взрывы-срывы, я не хочу сейчас анализировать. Мне казалось, что от какой-то обострённости чувств, когда слёзы -- ответ на всё, или радость, восторг. (...)
...сейчас я ещё слышу твой голос-утешение, твой прекрасный, чистый голос.
А о твоих на работе -- увы, Тютчев прав:
молчи, скрывайся и таи...,
да мы не можем этого! Мог ли он? Наверное, тоже не мог при всей его светскости. Потому что душа живёт и топорщится и простору хочет, а не рамок и загоняния вовнутрь.
Если можешь, поднимись над их смехом над твоим пионерством. Они не ведают, над чем смеются, и не ведают, что причиняют боль. (...)
...пиши мне, помни обо мне... (...)
Твоя Вера.
Март (?) 1983
...Ты мой самый большой друг, ты моя сестра (...), прекрасный, чистый человек.
Вчера смотрела в народном театре "Лису и виноград" (...) И вдруг, когда Эзоп удивляется: зачем же лгать, когда правда так проста, я увидела тебя.
Мы живём в мире условной правды и лжи (чеховская мысль); и мы привыкли, и вдруг появляется человек, не смиряющийся с этим, не понимающий, зачем так жить, и нам неудобен этот человек, мы смеёмся над его наивностью, детскостью, оправдывая этим ложь, в которой мы погрязли.
Родная моя, спасибо тебе за тот свет, что ты внесла в мою жизнь, за высоту твоего духовного начала.
Не сердись на меня, не печалуйся, счастье моё горькое, радость моя тревожная (...)
Март 1983
Родная моя сестрица, трогательный, добрый, нежный мой дружочек, Зайка сероглазый, хороший и единственный (...), моя душа; не бойся, милый мой друг, не бойся. Во мне эти дни была усталость страшная -- и студенты были -- милые, славные молодые люди, трогательно даже было, но это значит -- меня, учителя, смотрели, а это напряжение, а потом ещё и беда в классе такая.
Ты когда-то обрадовалась мысли, что в сумасшествии -- человек в его сути.
В горе, наверное, тоже.
Эта мама вызывает у меня такое уважение и боль; совсем простая женщина со справедливой и чуткой душой, умная и совестливая -- я и раньше это знала и желала ей жить подольше, она тяжело больна (...), я верила, что Саша (Сашко - она его зовёт) будет ей поддержкой. И вдруг такая страшная нелепость: врачебная ошибка, неправильное лечение, а потом ребёнок сгорел за два дня -- болел всего-то неделю. И все эти дни были тяжёлыми...
Киев. 14 апреля 1983
(...) 5-го апреля уже сорок дней, как умер Саша.
Дети поставили в классе портрет, положили тетради, рисунки -- сами сделали, сами ощутили потребность -- оставить память; мальчишки в свои дни рожденья клали конфеты; некоторые помнят с болью, но что всё это рядом с тем, что досталось его матери -- простой, умной, сильной, но жившей для него.
Я была у неё, -- страшное за этой сдержанностью. Она мне чем-то родня, хоть боюсь я её лишний раз тревожить. Мальчишки носят к портрету ветки: абрикосы уже отцвели, теперь вишнёвый цвет, а меня страх берёт: я вижу по этой женщине, что ей хуже и хуже: "Нэма Сашка, трэба за ным йты, або взяты такого ж с дитдому".
И "взяты" нельзя, больна она страшно, облучали её, и она знает почему. Знаешь, она может быть какой угодно, но она мне сестра, сестра перед Богом. (...)
Когда-то мне хотелось изойти любовью к людям вообще -- ко всем и к каждому, каждый вдруг умилял, потрясал необычностью -- улыбки, глаз, наивности, простоты и т.д. Годы прошли, нет во мне молодой радости любви ко всем. (...) Ты поднимаешь меня над буднями, ты даришь мне чудо духовной жизни.
И слава Богу. Не надо Его гневить нытьём. Он одарил меня щедро.
Спасибо тебе, голубчик мой, за нежность сестры и друга, за твой прекрасный/.../ упрекающий голос, чудесный мой друг.
Ты прислала Рубцова. (Сценарий. =Т.Н.=). Дружок мой, попробую сделать через год: подрастёт любимый класс. Это не та школа, где на вечера поэзии ломились, эти ещё недовоспитаны до этого. Но будем стараться, будем грести, попробуем (...)
* * *
Родная Танюша, девочка моя сероглазая, получила все твои открытки, (...) читаю письма Сковороды к Михаилу Ковалинскому (...) Они (составители) сделали одну глупость: перевели на современный украинский язык песни, басни -- вообще всё. Переводы с латыни -- это понятно, а со "староукраинского" -- смешно, кое-где переводы даны параллельно тексту, так староукраинский -- это, конечно, русский язык (...)
(...) Лотмана я выслала, а Жуковского получила, спасибо тебе, дружочек.
(...) Ты очень много сделала для меня (...) Я осознаю всегда твой суд над собой, ты этого слова не бойся, (...) не в том дело, что ты судишь (...), а я сужу тобой себя. Это каждодневно, и ты послана Богом, конечно, потому что нельзя жить без мерила нравственного в себе.
Я не смогла сказать коротко и понятно, но ты пойми, пожалуйста, как много ты для меня значишь.
* * *
Родной Заяц, ты просила высказываться на педагогические темы.
Объясняю, почему не могу. (...)
(...) Отношения мои с учениками любого возраста -- иные. У вас (в МГДП и Ш. =Т.Н.=) понятие ученичества более высокое, т.е. попросту высокое; ученик -- творец (...). Ты -- поэт (прости и не обижайся), и он -- поэт (нет ещё, но ведь пишет, хочет писать, да ему ещё и творческий вечер устраивают). Твои требования строже -- как к равному, мои -- как к ребёнку, за нравственность которого я отвечаю.
(...) У тебя добровольный союз, у меня данные мне дети.
Тебе труднее и сложнее в творческих и личных отношениях с ними, мне трудно в каждодневном труде -- в сочетании как будто прекрасных целей и мелочей, от которых нельзя отвернуться, в отсутствии времени и постоянном чувстве: должен, не сделал, виноват.
Ты не думай, дружочек, я не плачусь, и не пищу, и не пытаюсь доказать, что мне хуже. Мне по-иному.
Много можно высказываться о том, как смешны одинаковые требования ко всем, как ребёнка нельзя усаживать на 5-6 часов; а потом ещё требовать, чтоб он сидел ещё и дома до полуночи, как нельзя давать тех сочинений, что мы даём, как надо менять что-то коренным образом, но -- как? Куда нам плыть?
Будет ли школа с человеческим лицом?
Прости, голубка. Бегу в эту самую свою. Школу. К этим самым. Которые учиться не хотят.
"До чего вы мне надоели, -- сказала вчера 6-му "А". -- Надеюсь, что и я вам тоже." "Нет ещё!" -- запищали они.
Прости, дружок.
А для детей стоит жить и работать стоит. (...)
Киев. 20 апреля 1983 г.
(...) снилось: иду по Михайловскому, кто-то бледный и чернобородый поворачивает ко мне лицо возле сосны, в лесу, на взгорке, я поднимаю руку, говорю: "Какой лес!" -- он удивлённо: "О-о!"
А я начинаю махать руками и отделяюсь от земли. И лечу, и недовольна, что тихо, как будто так и буду невысоко над землёй.
Утром проснулась и вспомнила нас на Казанском вокзале, когда я была нашкодившей дочкой, а ты умной и строгой маменькой, и как хорошо ты меня простила.
Мне всегда было страшно, что ты меня не простишь, а потом я поняла, что ты меня прощаешь и простишь, даже если я очень виновата.
Таня, Таня, как долга разлука, как пусто бывает без тебя в мире, -- ты есть, ты в моей жизни; кого благодарить? Бога, Михайловское, вселенскую гостиницу или гостиницу заповедницкую, где ты оказалась рядом (...). Осветила, возвратила жизнь, выбила из колеи, вернула в колею, заставила задуматься, заставила вдруг оценить всё с позиций правды и добра, прочитала стихи, "зацепила обветренным крылом", это было первое стихотворение, которое ты мне прочитала, и я его почти сразу запомнила. И запомнила не просьбой о возвращении бури, а движением, полётом; я лечу с ним, понимаешь? Глупенькая, ты как-то трогательно пожаловалась на моё невнимание к твоим стихам. (...) я слишком непосредственный читатель. Я люблю твои стихи и ощущаю их. Душой и, стыдно признаться, кожей, телом. Есть стихи, с которыми я бегу, теку, есть -- которые пью, есть -- которыми дышу (...). Есть стихи, которые мне кажутся мудро и строго спокойными / о Рембрандте и о полустанке/. Я вздыхаю, когда вспоминаю последнее. Вот мне бы такое восприятие жизни -- без побрякушек и украшений (...) Таня, Танюша, мой прекрасный друг, мой человек, мой поэт, не сердись. Помни меня...
Киев, май 1983
(...) вчера к вечеру на минуту вдруг покинуло меня напряжение, и я провела рукой по твоей щеке и взглянула в глаза, и пахнуло светлым, святым 76 годом, жасмином, светлым Псковом. (...)
Танечка, ты пишешь, что выслала Рубцова, а я молчу.
Книги Рубцова я не получала, а сценарий пришёл, и я о нём тебе написала, т.е. написала, что подрастёт (...) любимый класс -- будет для него.
Девочка родная, грустное твоё последнее письмо, мне больно от него (...)
(...) Мне горько, если ты останешься в жаркой Москве. Таня, милая, придумай что-нибудь (...), попробуй увидеть Север русский. (...) А мне так хочется, чтоб ты отдохнула, что ж, что без меня, -- может быть, для стихов или прозы это и лучше (...).
Мне сейчас счастьем кажется неделя лесного уединения.
Звёздочка моя светлая, родная моя Марфа Посадница (только глаза, ты добра и колебалась бы, интеллигент родной), Рязаночка моя (...)
9 июня 1983 г. Киев
Моя родная, мне хочется любоваться тобой. Я знаю, что грех желать тихой пристани (...), но мы ведь живем в достаточно чужом и жестоком мире, мешай мне работать, ради Бога, мешай! Не давай покрываться душе и сердцу коростой, пусть оно бьётся любовью и болью, милая моя. Только живи, только пиши, помни.
Тяжкое время, чужое.
Я не хотела сразу писать тебе, но сказать придётся, а сказать просто так, между делом, притворившись, было бы ложью и неуважением к памяти человека.
Юра Милейко умер. Убили его или умер он по своей воле -- неизвестно. Я думаю об этом -- о нём, о том, как всё страшно, жестоко и несправедливо, каждый день. Я видела его 16, 17, 18 мая. 24 мая он звонил Тате в Ленинград. 26 мая он не пришёл с работы, а 29 его нашли в 70 км от Киева возле какого-то глухого села. Смерть, по заключению экспертизы, наступила 28.
Где он был, кто издевался над ним, кто довёл его до нежелания жить или убил его, -- всё это тайна, и вряд ли она откроется. Дико хоронить человека, когда 2 недели тому назад ты слушал с ним музыку, а он был полон жизни. Господи, я благодарила судьбу за эти три дня, за то, что отдала твою книгу, а он успел ей порадоваться; что унёс с собой добрый, честный, хороший Юра? -- душа у меня болит о нём до сих пор.
Прости, моя родная.
Не надо думать о войне. В обозримом будущем её не допустят развитые страны -- это самоубийство. А силами неразвитых она ведётся постоянно. Эта девушка на работе говорит о ней легко, а говорить просто не стоит. Мужики иногда хорохорятся, говоря о войне, -- страшном, грязном, бесчеловечном деле. Какие миллионы воль её породят, какие причины, когда -- не предскажешь. Ракеты будут грозить друг другу, а мы будем жить в страшном мире.
Но где-то в глубине (души) я не верю в нее, а верю, что человечество еще не созрело для самоубийства, что оно, если и не придёт к высшей правде, то хотя бы будет стремиться к миру.
Милая, милая, я не отмахиваюсь от проблем. Я понимаю, как страшна, катастрофична та война, что будет. Не могу принимать без содрогания рассуждений о том, что она обновит человечество. Как тут Достоевского не вспомнить о слезах одного ребёнка.
Прости. Я кончаю. Что-то железное сейчас грохочет за окном. Целую твои руки, мой прекрасный человек. Вера.
12 июня 1983 г.
(...) жить нужно, и стараться жить светло.
Лётти4, знавшая, что умирает от рака, жила светло. Перед поездкой в Индию она раздарила почти всё, что у неё было. И вернулась, почувствовав себя русской.
Любовь Джалаловна сказала, что Лётти умерла в конце февраля или в начале марта. Мне не хочется верить, потому что она -- человек, связанный со мной праздником и землёй обетованной -- Михайловским, цветущим льном, стеной овса и тихими закатами.
Они остались со мной -- Юра (Милейко. =Т.Н.=) и Лётти, -- "но с благодарностью -- были".
А жить надо, неся тяжести её, жизни, и сознавая её суровость и щедрость...
Киев. 14 июня 1983 г.
(...) Страшно потерять душу, страшно ожесточиться и извериться. И то, что есть люди, которых я люблю, держит меня на свете. Может быть, я приду к какому-нибудь страшному жизненному итогу (стоит ли думать об итогах, когда жизнь быстротечна, неожиданна и вдруг награждает небытием неизвестно за что); горько было бы осознать, что принесла боль и горе, что не была счастлива, а тешилась придуманным счастьем, что состояние счастья от полноты жизни и чувствований, от сознания себя светлой, поднятой над мелочами жизни, летящей -- всё это ложно, надуманно (...).
Страшно прийти к физической немощи и к сознанию своей ненужности -- эту мысль я отгоняю, как и мысль о мировых катастрофах. (...)
А в мире убивают. Людей много, объединить их мыслью о святости и чуде жизни, к сожалению, пока не удалось.
___
4 Летти Тарасова - русская индианка
5 Любовь Джалаловна Гейченко, жена директора Пушкинского заповедника.
Предсказывать будущее боюсь.
Если англичане обалдели от восторга, оставив убитых молодых людей на Фолклендах, если в нации достаточно культурной вдруг вспыхивает такой дикарский шовинизм и восторг от запаха пороха и крови, то ждать Христа объединяющего пока не приходится.
Убивают, убивают, убивают. Отряды повстанцев, отряды карателей, и никто не крикнет:
-- Остановитесь, люди!
А может, кто-нибудь и кричит, да мы не слышим.
Жить эгоистическим счастьем в такое время? (...) где оно, счастье, когда Пётр Ильич прав: есть только тяжёлая действительность, а мечты и грёзы о счастье -- это так кратковременно. И всё-таки я отказываюсь пока от веры этой. Я верю тебе: жизнь -- счастье; чувствовать каждый её миг обострённо и полно, любить, радоваться детям и их восприятию жизни, их чистоте (...), знать, что есть стихи и музыка и великая русская литература -- вся из добра, любви и сострадания -- это досталось нам, пусть будет с нами...
Киев. 21 июня 1983 г.
...Ты во многом, то есть почти во всём, права. Мне, правда, иногда кажется, что я чуть хуже, а иногда проще, а иногда чуть сложнее литгероев, с которыми ты меня сравниваешь, но я в твоём письме оказалась в таком хорошем обществе, что грех отрекаться и протестовать. Я ещё люблю Стиву Облонского и Федю Протасова. Ещё я немножко похожа на Пьера Безухова в период его московского камергерства, когда он был толст и работа мысли в нём несколько замедлилась, а было время, когда моим любимым героем был кот Бегемот из "Мастера", а мечтой -- полёт на метле.
Я до сих пор иногда лечу во сне.
Невысоко, правда. Иду -- и вдруг отрываюсь от земли, не взмахивая руками, -- и лечу. Летящее счастье (...) у меня (так мне теперь кажется) бывали целые дни подъёма, восторга, счастья, любви ко всем -- это молодость, конечно.
Потом, в августе 1969 года, я пережила полосу потрясения от встречи с совершенным человеком и Россией псковской, первый раз я увидела её в 1967 и восхитилась, но в 69-м я её пережила и осталась в ней.
В Клину снесли деревянные дома у парка, и мне трудно будет подойти к месту, где был мой дом.
И сейчас, не в самую трудную, но в достаточно трудную минуту жизни, мне кажется: если б я могла несколько минут постоять с закрытыми глазами на бугровской тропинке, я пережила бы счастье.
Сегодня была минута, когда захотелось вдруг броситься к живописи. Вспомнила, как 20 лет (больше, чем 20!) тому назад увидела в Ленинграде, в Академии Художеств, Нестерова. Сначала "На Руси", а потом пустынник с лисой так сжали сердце, что я попросила, чтоб меня увели.
Уйти от себя, почувствовать полноту жизни, покорения всей души, всего, что есть в тебе, -- восторгом от прекрасного (совершенного); как не хочется терять этого чувства, и как знаешь, что не надо его призывать, само придёт растворение, умиление, умиротворение и любовь.
А пока -- что ж -- следует жить, родная моя, и сердце твоё будет болеть. Мне тяжело писать тебе об этом, но я знаю тебя, ты не станешь холоднее, не ожесточишься (в смысле -- не огрубеешь), ни к чему не будешь легко относиться. И вообще, это, по-моему, почти ни для кого не возможно. Как альтиста Данилова трясло во время землетрясения в Перу, так и всякого чуткого к боли человека будет мучить своя и чужая боль.
Только всё-таки следует жить и, по возможности, следовать твоему совету, данному мне, -- быть мужественной. Смогу ли -- не знаю. Ох, как трудно мне судить себя, хочется пройти мимо. Крикнуть: я --- человек, не идеал, не титан (...) Линка Елишевич, утешая меня, сказала: "Вы всё равно лучше всех!", меня некоторые дети любят, и кому-то я нужна, но я-то понимаю, что нельзя останавливаться, что стремление к совершенству должно быть вечным. (Толстой трогательно объяснял, почему не может считать нравственным поступок революционеров (...): стремление к самосовершенствованию. Убийство губит душу).
(...)
Не сердись на меня и не пытайся меня объяснить даже сравнениями с любимыми мной людьми /они же люди для меня, ты права/.
Бог знает, а может, и Он не знает, что в каждом из нас, и если Он завещал нам любовь, будем любить.
Целую тебя, родной человек. Вера.
22 июня
Зайка, не сердись на моё легкомыслие в такой день, я помню и поминаю всех, о ком писал Трифоныч: отступавших, воевавших день иль час, павших, без вести пропавших, нам воды попить подавших, помолившихся за нас.
Но проснулась я почему-то легко, вспомнила светло тебя и начала худеть.
Целую Заячий, русский, любимый нос. В.
Киев. Июнь (?) 1983
(...) В соборе было сумеречно, немноголюдно, и в центральном нефе стояли большие ветви лип, не ветви -- почти деревья. Мне дали просфору и сказали поставить свечу Спасителю. С детства, когда бабушка водила меня в церковь и я умиляла её серьёзным отношением к службе, а бабки -- её соседки -- хвалили меня и говорили, что Сергий Радонежский поможет мне учиться, я не крестилась в церкви: перестала верить; а потом узнала, что и не имею права: не крещена.
В первый раз через много лет перекрестилась, ставя свечу: в память о всех, с кем я вдруг почувствовала такое родство, такую связь, такой их зов, такое сознание, что я часть их, ушедших. И лицо бабушки Пелагеи Ивановны вдруг встало, родное, а ведь тогда, давно, я не понимала своей любви и близости к ней. Только теперь я как будто почувствовала, что было в ней, старенькой, сухонькой, маленькой, когда она прощалась с нами -- мы уезжали в Киев -- и плакала; если б знать тогда, в детстве, что тебе достаётся и что остаётся невысказанным и непонятым в них, уходящих от тебя.
Пошла к "Тайной вечере", внизу было распятие, розовое, киевское, не трагическое. Но от полумрака и тишины -- опять умиление, тяжёлое умиление, сказал бы А.С. - боль о Юре (Милейко. - Т.Н.); отошла к колонне, увидела "Моление о чаше". Как странно, раньше я думала о странности и неестественности для Христа этой его мольбы, а тут вдруг поняла, как жестока я к Нему, Сыну Человеческому и Божьему; почему же Он должен был желать этой чаши страданий? -- и я впервые за много лет заговорила с Ним и испугалась себя. (...) просто не могу рассказать о просветлённой боли, которая на меня сошла, о слезах, которые я еле сдержала (...) я просила Бога не внушать мне веры, это слишком тяжёлый груз (...), это не просить у Бога, не утешаться ею, верой, это жить во имя её, т.е. Его, я этого не смогу. Не смогу жить по-евангельски, быть несуетной, бороться с грехами своими, заявить людям о своей вере и быть твёрдой в ней, в живой вере, "вера без дел...".
Вышел дьякон, золотой и синий, кадил, кланялся иконам и народу, потом священник в праздничном -- зелёном, синем, золотом; хор запел. Пели, видимо, семинаристы, хорошо пели, и я ушла, нашла ещё бабок, и их тоже попросила помянуть (Юрия Милейко. Т.Н.).
Вера не утешение. Раньше я думала, что она утешение.
Она -- готовность на подвиг любви, смирения, самоотречения, растворения -- полного -- себя в ближних и дальних, т.е. все ближние, нет дальних.
В одной литовской пьесе (или латышской) девочка поёт романс Чайковского: "Высший подвиг в терпенье", а потом гибнет, столкнувшись с мерзостью любимого человека. Пьеса сентиментальная, но и я сентиментальна, а вот девчонка-девятиклассница приходит к этой вере -- высший подвиг в терпенье, в любви, а я не могу прийти к этому, т.е. понимаю это, но топорщатся во мне мои человеческие желания и надежды, нет во мне смирения; и ты права: мы любим вымытых, благовонных, отталкиваемся от грязи, от боли, если она не совпадает с нашей.
Грустно признавать, что ты права в этом (...).
Т.е. умозрительно, издалека я могу любить и умиляться, и радоваться многим, раскрыть объятья, желать добра и т.д. -- но истинная, человеческая и божеская любовь -- любовь Христа, Швейцера, Толстого, Ганди, -- я не доросла до этой любви и потому недостойна веры.
Прости меня, родная. Смотрю сейчас на твоё лицо на фотографии, удивительное твоё, говорящее лицо, и не покой, а добро нисходит на душу.
Прости меня, я вызвала, не желая того, взрыв твоей боли...
Киев. 25 июня 1983
(...) Наверное, нужна величайшая сдержанность, чувство меры, умение быть спокойной (хотя бы внешне), не обнаруживать сердца, обиженного или кровоточащего.
А не могу я всего этого. Вся и всегда буду лезть наружу: обижаться. Выходить из себя, срываться и страдать от обид и от того, что обижаю.
(...)
Июнь 1983
...Никак не найду письма, написанного позавчера. Найду -- отправлю завтра; если нет: я просила тебя там написать Евгении Герасимовне, если сможешь. Ей будут дороги твои слова о Юре. (...) Ей с каждым днём труднее: осознание утраты самого близкого ей человека. Ей было 18, а ему 16, когда они рыли окопы под Сталинградом, и всю жизнь они прожили рядом, Юра был помощником, опорой, очень добрым человеком, другом.
Мне не хочется напоминать тебе об утратах.
Ты -- моя поддержка. Когда-то ты излечила меня от нытья одним только словом. А сейчас мне не хочется, чтоб ты обо мне плохо думала, но на меня вдруг такая горечь и боль находит от трагичности того, что произошло. И что- то зловещее в этой тайне.
Всё, моё прекрасное древо жизни (так когда-то назвал меня мой первый завуч, старый украинский интеллигент), не буду об этом. (...)
Все мы как-то где-то почему-то бываем эгоистами, эгоцентристами и т.д. И все мы, хоть бывают исключения, любим, иногда забываем о себе и умеем отказывать себе в чём-то и отдавать -- говорят, -- в этом жизнь. И если очень строго судить себя -- отдаём нужное? -- нет, о тебе знаю, что ты способна отдать необходимое и отдаёшь не из барского избытка.
Ерунду, наверное, говорю. Родная моя, ты прости.
Ночь, весь день надоедливый дождик шёл, клонило ко сну, выливается из меня нервная усталость этого месяца.
(...) чудесная моя подруженька, лопушок мой подмосковный, постараемся увидеться...
4 июля 1983 г. Киев
(...) да не девочка и не святая ты (и не полусвятая) в моём представлении, а взрослый, умный, спокойно-мудрый и талантливый человек, а ещё -- твоя боль, романтизм, открытость (потому что спрятать себя ты не можешь и перед чужими), срывы (это у всех бывает) (...) в тебе есть ум и талант и талантливость. Тебе тяжко, родная ты моя, при всех твоих глубинах и высотах (это всерьёз говорится), ты доверчивый человек и думаешь, что все (или не все, а друзья хотя бы) должны понимать и сочувствовать.
(...) "Что с нами происходит?" (Шукшин).
(...) Родная моя, спасибо тебе. Ты душа такая родная мне, что я не могу рассказать этого и даже понять не могу -- почему? Как будто в тебе вдруг такая сила понимания, любви, такта, что ты исцеляешь меня.
Родная, ты помогаешь мне. Даёшь силы, терпение, надежду.
Твоя В.
6 июля 1983
Голубушка моя, твоё письмо Евгении Герасимовне пришло 5 июля, в сороковины.6 5-го уже сорок дней.
Спасибо тебе, мой родной человек, за него, мой добрый, прекрасный, искренний друг.
Евгения Герасимовна попросила меня прочитать всем телеграммы от Козловского, Гейченко, Шендеровича, Шаталова, Биешу и не помню ещё от кого, и твоё письмо. Строчку о себе я пропустила, а в конце чуть не заревела, потому что тебя представила говорящей это. Женя повторила твои слова о "богатстве", и она так тепло говорила о тебе (...) На Юрином столе осталась твоя книга. Век бы себе не простила, если бы не успела передать ему её (...).
9 июля 1983 г.
Родная моя,
-- семь лет тому назад было 8 июля 1976 года. Ты помнишь весь этот день? Мне кажется, что я помню его весь, со всеми мелочами, помню так ясно, тепло, больно и счастливо, потому что это день чуда: я поняла, что у меня есть единственный, вечный друг.
Спасибо судьбе, спасибо тебе за то, что ты явилась передо мной в Михайловском, поразила глубиной, честностью, чистотой; спасибо тебе, родной и единственный человек.
11 июля
Родная, мы будем всегда помнить июль 1976; Таня, Танечка моя (...), не заставляй меня думать о тебе по-иному, т.е. иначе, чем я думала тогда: в тебе осталось то же, что было, (но) ты стала старше и пережила и перечувствовала при твоей интенсивной внутренней работе достаточно много и тяжело (...), как я помню (...) ту девочку и нынешнего взрослого человека -- тебя, родную, усталую, мудрую (...).
___
6 Речь идёт о родной сестре киевлянина Юрия Милейко, зверски замученного властьпредержащей мафией.
(...) никогда бы я так не любила Россию, если бы не было в моём детстве деревянного бабушкина дома, с деревянными стенами, потолком и тёмной горницей, овина, обрыва с кукушкиными слёзками и катаньем яиц на Пасху, деревенской нарядной обедни. (...)
...деревня, -- кислый послевоенный хлеб, дорога в овсах, женщины жнут серпами в зной, а мы, босые, идём по стерне, она колется, больно, а им каково сейчас, мы уйдём, а они жнут, обливаясь потом, вяжут, ставят снопы, -- она со мной в моём далеке. (...)
А когда любят за то, что хорошо, вернее -- думают, что можно за это любить -- где хорошо, там и родина, -- обманывают себя, их жаль, у них это не от богатства, не от терпимости -- от бедности духа.
(...) Всё, Заяц. Читаю ленинградские статьи Берггольц и буду делать из них и из разных стихов "Блокадный Ленинград". Стараюсь не плакать.
Помнишь, у тебя -- о глазах оркестрантов? Я вспоминаю, ты Чудо, ты смогла давно это увидеть, почувствовать и сказать (...).
Июль 1983 г
Родная моя, мой единственный человек, ты вспомнила 8 июля, да, ведь вспомнила? Уже 7 лет ты мой прекрасный и самый настоящий и единственный друг, моё чудо, моё светлое счастье.
-- В Вас какая-то пугающая глубина, Таня.
-- Вот в том-то и дело, что пугающая.
Родная моя, светлая моя, умница моя ненаглядная, мой чудесный, чистый, большой человек, - не горюй. (...)
Я знаю, почему кажусь тебе девочкой: меня никто не жалеет так, как ты. И я не могу быть умной взрослой. Всё, что есть в душе доброго и чистого, -- от тебя, пробуждено тобой; благодаря тебе родилась вера в возможность чистоты и правды жизни, в возможность счастья. (...)
Был такой писатель -- Константин Воробьёв. Я узнала о нём поздно, прочитав в Литобозе о повести "Убиты под Москвой". В библиотеке на днях нашла сборник -- три его повести и три рассказа: "Сказание о моём ровеснике", М., "Сов. Россия", 1973 г. В этом сборнике есть повесть "Вот пришёл великан". Прочитай, пожалуйста, очень тебя прошу. (...)
Там и всё другое искренне и хорошо. И мне почему-то больно: этот человек жил при мне, в 73-ем мне было уже 35, а я не знала, что живёт на свете такая щемящая боль и жалость. (...)
Июль 1983
(...) дома мне всё нехорошо, меня разговоры раздражают, мне тяжело, я устала. У меня тяжёлый август впереди и трудный год, и никто дома этого не понимает. Никто не понимает, что мне нужна хотя бы неделя не-беганья по магазинам, не -дёрганья, молчания, чтения, купанья, прогулок.
И это всё не так. Мне нужна неделя с тобой. Ты меня жалеешь. Ты одна меня умеешь жалеть по-настоящему, ты друг и ты человек, возродивший меня, вытащивший меня из суеты и мелочей -- мелочности существования.
Родная моя, я веду себя нехорошо, я изнутри высокомерна, я не обижаю, но не подпускаю к себе, мне навязчивой кажется ласка (...). И я себя ненавижу за то, что не выдавила из себя раба; да, ты права, со мной удобно. Я не хочу говорить, что приедешь ты, не хочу. Я хочу, чтоб поняли, что не из-за тебя, а для себя я должна получить неделю передышки.
(...) Раба буду выдавливать, мне горько, что он так глубоко во мне.
Целую, ненаглядная ты моя.
Книгу твою поцеловала сегодня.
Помнишь Васю Очеретяного из киевского ТЮЗа? Он теперь москвич, да я не об этом хотела. Я спросила, понравился ли ему Думбадзе.
-- Я прочитал "Закон вечности", закрыл книгу и поцеловал её: я никак по-другому не мог сказать спасибо автору.
И я никак по-другому не могла сказать спасибо автору.
(...)
Из устной беседы. Август 1983 г.,
село Казновка под Фастовом (Киевская область)
Вера: Симон Соловейчик неправ. Его педагогика --восторженная, он работает только для интеллигентных детей и в работе педагога хочет видеть только праздник...
Киев. 9 сентября 1983 г.
(...) Я напрасно родилась. Но больше не буду об этом.
Это переутомление первых дней во мне кричало. И то, что не было отдыха и отрешения. 21 августа в Казновке -- единственный день, когда дышала счастьем, а не тревогами, да ещё часы, когда была ты , когда глаза твои светили добром. Родной мой, мудрый человек, ты понимаешь меня и мою жизнь, временами подозреваешь меня в ограниченности (...)
Бог с ним, меня и это трогает в тебе. Только не оставляй своей дружбой, глупый мой, сероглазый Малыш, тёплый мой Заяц.
(...) 21 августа был день рождения Володи Сосинского --трогательного, умного, глупого, разбросанного, храброго, задиристого, прелестного Володи Сосинского -- и я не вспомнила об этом. Незадолго до этого я говорила с ним по телефону. Он был хорош, звал пожить у него в Москве и поработать -- это было в августе. Я позвоню и напишу ему, хоть он сейчас очень плохо видит; Боже мой, родные старики, не хочу переживать их, их немощь, их боли, их кротость и буйство -- всё это на сердце, как жить без них -- не знаю.
Два года тому назад на псковском автовокзале спал маленький, бедный, в засаленном пиджаке, смердящий старик. Проснулся, сел, пытается надеть ботинок -- и не может. Я осторожно затолкнула его ноги в огромные, разношенные ботинки. Он мне: "Спасибо, доченька! -- с достоинством, спокойно. --- И ноги-то негодящие, смотри": поднял штанины -- на ногах язвы.
"К врачу, дедушка, надо", -- "Что врач, не надо уже к врачу".
Мой это был дед, родной, достойный; мудро встретит то, перед чем я суечусь.
Ноябрь 1983
(...) знаешь, Заяц, сейчас четверым ребятам в армию пишу: (...) туда писать легче, знаю, что надо, чтоб солдатикам повеселее было.
А тебе -- тебе нельзя лишь бы, не потому, что ты осудишь, а вот нельзя и всё.
Родная моя, ты помнишь какие-то неосторожные мои слова. Девочка, не надо. Так хорошо и светло мне при мысли о тебе, так нужна ты душе, такое ты чудо и просветление моё. (...) какая ты единственная. Не горюй. "Н е г о р ю й т е, В е р а". Ведь надо было тебе это сказать. И так глядеть серыми глазищами.
Родная, ведь я расставалась с тобой, как с душой расстаются, и только потом родилась тихая, сильная, счастливая вера, что мы вечны, что ты всегда будешь, что дружба наша свята.
Не горюй, дружочек мой.
Ты научила меня этому слову(...).
Твоя Вера.
Киев. 24 февраля 1984
(...) Да, существует Индия, Христос, Клин; живёт в мире то, что возвышает дух; о глинистой дороге -- совсем хорошо у тебя, я Блока вспомнила, но это -- твоё и Чайковское (...).
(...) люди будут всякими, надо много-много работы, времени, духовности, жертв, чтоб (...) ближние реже бросали каменья в искренность, поэзию и т.д.
В "ЛГ" в интервью со Спиваковым меня тронули слова японцев, в предисловии к поэтическому сборнику X века: "Когда человек выражает свои заветные мысли, мы зовём это поэзией".
Наверное, страшно высказывать заветное?
(...)
Март 1984
(...) Мои дети пишут: чистого неба, душистого хлеба, ключевой воды, никакой беды (...)
9 марта 1984
(...) Вот и жизнь идёт, как вода в песок, и кого донские соловьи отпоют, кого гудки московские, и всё это печально по-настоящему, а мне и стареть не хочется (...) И когда вдруг какая-то предательская боль подступает (...), я начинаю думать: я нужна, я должна быть сильной (...) видно, отходит какая-то страшная нервная усталость, душа открывается надежде и вере в то, что будут счастливые дни, что есть в жизни высокое и прекрасное.
Мне одна немолодая (...) женщина пожелала высокого неба. (...)
Увидеть небо Аустерлица и маленького Наполеона и осознать, что Наполеон -- суета, а небо -- вечность, услышать в плеске волн: верь!
Вдруг при пошлости, суете, грязи школьной (взрослой, а не детской) жизни мне стало легче (...); знаю, что в этом освобождении есть и ты. Есть живая жизнь, и это что-то настолько ясное, чистое, простое, что надо стать ребёнком и верить в правду (...).
Март 1984
...ты есть в моей жизни, и когда ветер ночью воет, -- я не одинока, ты есть в моей жизни.
(...) дай Бог, чтоб у нас были эти 20 дней на Волге.
А Михайловское? Что ж Михайловское -- есть там место по дороге к Бугрову с холма, где мне надо остановиться, закрыть глаза и испытать счастье.
Нигде и никогда не было у меня такого чувства единения, слияния с землёй (со льном, шмелями и колосьями), как там, это моя родина, и я хочу её увидеть.
Да продлит Господь Симеоновы дни. Мне надо вдохнуть воздух его дома.
(...) Я по-настоящему не видела Волги (только у Плёса когда-то и всё, а у Ярославля и в Волгограде -- зимой), я не была ни в Костроме, ни в Угличе, ни в Астрахани.
А Михайловское -- это вечная моя тоска по родине. Я с ним живу. (...) Это как у Николая Васильевича: любить не то чтобы сердцем или умом, а всем, что ни есть в тебе (...).
А ещё получила два письма от матери Лётти Тарасовой. Если смогу, напишу о них позже. Она живёт на улице Грекова. Ты не знаешь, где это? Сделать для неё я, конечно, ничего не могу, кроме писем и сочувствия, но если это не очень далеко от тебя и если ты сможешь (...), то перед 21 марта я хотела б, чтоб ты заехала к ней. Она, наверное, очень стара, ведь и Лётти родилась в 1929 году. Ей не надо ничего говорить, только от меня отвезти цветы (21-го годовщина). (...)
Очень-очень хочу на Волгу, в белый Ярославль! (...)
Март (?) 1984
(...) вчера смотрела на толпу у трамвайной остановки: толпа была некрасивая -- чёрные и грязно-красные пятна, серый снег и кирпичные дома Печерска сзади -- не того нарядного весеннего Печерска, где ты жила в "Киеве", а зафасадного, рабочего. И вдруг подумала: что, если б вдруг я увидела сейчас тебя. И разлилось тепло, и сердце сжалось, и не ты, сероглазая моя Таня, явилась мне, а нечто непередаваемое -- не музыка, не цвета, а свет божеский хлынул.
Наверное, жизнь сердца неисчерпаема, наверное, себя не расскажешь, да и сам не узнаешь по-настоящему.
Почему от пустякового раздражённого замечания вдруг часами плачешь и мучишься -- и осознаёшь свою несчастливость, неудачливость, одиночество, а то без видимых причин -- счастливо;
неудивительно (...) есть человек (...), как назвать?
вершина? Море?
Всё не то. Свет, счастье, тепло?
Наверное, свет и тепло, пусть не во враждебном, но и не в обнимающем меня мире.
Я глупая мимоза (впадаю в детство). Два дня была в слезах (...), потому что одёрнули, когда спорила из-за пустяка. (...)
(...) Нет во мне свободы и самого естественного эгоизма, который уважают окружающие (и родные). (...) И выплакаться (...) хочется, и радоваться с тобой, и сбросить хоть на день груз, что накапливается годами.
Сколько людей ушло и осталось, дорогих людей.
Верь или не верь в жизнь вечную, а боль остаётся и живёт. И живёт бедная мама Лётти, и Володя, утративший без Ариадны стержень (и сохранивший доброту и любовь), а Юра, унёсший что-то добро-ласковое из моего мира, а драчливый Сашка Руденко -- всё это мои люди; а последняя улыбка Софьи Яковлевны! И сколько грехов у меня, и сколько я не утишила.
(...) Бог послал мне тебя.
В этом я не сомневаюсь.
Сколько вёрст, столько долголетий, тысячелетий без тебя -- и вдруг -- псковская светлая ночь, и жасмин, и ты.
Спасибо тебе, мой друг. (...)
Твоя В.
Апрель (?) 1984
(...) Сегодня была в больнице у Леоноры, в заснеженном парке.
Больница барская, конечно: удивительно покойно, большие комнаты на двоих, со всем необходимым, как хорошая гостиница -- тишина, тишина, покой, которого глотнуть хочется. Норка лечится, -- дай-то Бог вылезти ей из её тяжкого состояния: она очень всерьёз пьёт. Это страшно. Потому что Норка -- это моя юность. (...)
Но ей лучше сейчас и тише.
И шли мы по парку, и два белых одноэтажных дома под зелёными крышами, и в одном окне кошка-тигра, я поздоровалась, она радостно зевнула и спрыгнула в комнату, а через минуту была возле меня, родная душа. И я вспомнила, как к тебе идут московские кошки и взяла её на руки. (...) это были хорошие минуты: что-то есть в этих зверях, вдруг ушло напряжение, тихо стало. (...)
А в больнице был трогательный и кроткий дед -- киевский еврей. Может, я преувеличиваю его кротость, но боли он переносил стоически; на второй день после операции попросил меня наклониться к нему и поцеловал в щёку. Делу 80. Володе Сосинскому -- 83. Господи, пошли кротость и мудрость, не дай суете затоптать мою жизнь.
Заяц, всё это бред, не обращай внимания, я тебя очень люблю. И не смей высылать никаких десяток. Письмо открыли, бросили сверху, на ящики, но десятка в нём лежала. (...)
Родная моя, не высылай никаких денег. Это очень серьёзная просьба. Господь с тобой, что ты должна? Я должна, а не ты. Ребёнок милый, пойдём шашлыки есть. В киевском парке. Таня, Танюша, где ты? Почему тебя нет, мне выплакаться надо (...)
Киев. 15 мая 1984
(...) прочитай Маканина ("Предтеча", "Голубое и красное"); Москва, "Советский писатель", 1983 г. Тебе некогда, но (...) "Голубое и красное" меня (...) трогает деликатностью отношения к крестьянско-дворянским корням героя или автора, но всего я хорошо сказать не могу (...).
Киев. 20 мая 1984
(...) Получила стихи, открытку о Шукшине, напишу. Спасибо за стихи. При первом прочтении были и тронувшие очень. Но напишу подробно и всерьёз. А сейчас первый час, а завтра Чехов и Шолохов. (...)
(...) гляну в твоi чудовi очi,
i ти вся -- cвiт мого життя,
тиха молитва, диво мое дивне.
Чого являешся менi у снi?
Чого звертае ти до мене
Чудовi очi тi яснi,
Немов криницi дно студене?
(...)
Весна (?) 1984
(...) К 175-летию родного и любимого Николая Васильевича твоё сатирическое перо нарисовало мой яркий портрет.
Но ты, конечно, Щедр. Мой добрый, умный, ясноглазый Щедр. (...)
Чудо ты моё. Полетим над полями, полетим над лесами я в ступе, а ты на гусях-лебедях или на ковре-самолёте, то-то народ удивляться будет. (...)
Поплывём. А о мае пока не загадываем. Хотелось бы не в город. А куда-нибудь в захолустье. В Чернигов. Пущу. Боярку-Тарасовку.
Работа одолела. Слава Богу, отдаю на днях (Эльке) один 8 класс. Завидую её молодой самоуверенности: она не сомневается, что справится.
Дай-то Бог. Я решила, что совесть меня мучить не должна: она согласилась по доброй воле, сладит с ними (...)
Я в её годы сомневалась в себе. (...)
Счастливо, Заяц. С Шукшиным счастливо и с Васькой (учеником. =Т.Н.=). Целую. В.
Зима или весна 1984
(...) Софья Яковлевна -- учитель в самом высоком и прекрасном смысле этого слова. Я не видела урока лучше, чем у неё -- не по нынешним требованиям к техсредствам, а по тому чувству свободы и радости узнавания, которое испытывали её ученики. Судьба её -- драма и счастье толстовское -- каждодневное самоотвержение.
В Новосибирске, 20-ти лет, в эвакуации, она получила похоронку о женихе, в 46-ом году встретила его живого возле Софийского собора, была уже замужем и ждала ребёнка. А за неделю до рождения дочери умер от старых ран её муж.
И всю жизнь учила, растила дочь, опекала двух своих стариков
(...) Она много дала мне, так много, что, пожалуй, все оставшиеся дни работы я должна быть ей благодарна -- выросла из неё, хотя и не достигла (и не достигну).
В ней не было суетности и была настоящая мудрость, терпимость и понимание жизни, людей, прощение и при этом высокие и твёрдые принципы.
Не расскажу о ней всё равно, но -- ушла молодость, ушёл терпеливый и верный друг.
(...) Получила сразу два твоих письма.
Ты родная, ты чудо моё, спасибо тебе. (...) мне кажется, что с прошлой трудной недели уже год прошёл. (...)
Свет ты мой, чудо моё, опора (...)!
1984 (?)
(...) письмо твоё вызвало у меня совершенно неприличный восторг: давно я так не хохотала наедине с собой. Главное, я представила, как меня ты отчитываешь за лень, избыток веса и прочие гнусности -- и славно мне стало.
(...) Самые непродуктивные часы после школы. Тут всякое бывает: аптека, магазин (...); какая-нибудь домашняя суета. У меня после школы нервная усталость и сознание, что не всё сделала.
Есть такие семьи, такие ребячьи судьбы, в которые надо влезать; страшно влезть бестактно -- не исправишь всё равно, а напортишь.
(...) Читаю. Иногда нуждаюсь в лёгком чтиве, чтобы отойти от усталости. Классиков читаю. Тургенева, например. Отличный писатель. Русский. А временами из него Л.Н. проглядывает. В смысле народности. В стихотворениях в прозе. Но красив. Местами можно убавить.
(...) "Доктора Фаустуса" могу читать, отдохнувши и отошедши от суеты. Насчёт моих привычек ты так права, что я подпрыгнула от удовольствия: очень живо получилось. Танька, ты была бы великолепным сатириком и юмористом, недаром у тебя глаза, как у Салтыкова-Щедра. (...)
Насчёт того, что будешь воевать со мной:
борiтеся -- поборете,
Вам Бог помагае.
(...)
Май-июнь 1984
...Родной человек, не обижайся на меня никогда.
Никому я так не дорога, как тебе, я знаю.
Спасибо тебе.
Спаси тебя Бог, храни тебя судьба (...)
9 июня 1984. Киев
(...) В 194 школе была Ирина Дашковская, нарядная, стройная, цветущая женщина, (...), но как-то мы, русаки, были с ней в добрых отношениях, но, пожалуй, не близких. Она человек порядочный, но не подходящий близко к людям.
Муж её -- поэт-песенник, человек нездоровый; когда-то, лет 10 тому назад она в учительской пошутила, что ей нельзя умирать: надо сначала мужа пристроить.
А через год, т.е. 9 лет тому назад, ей сделали в Москве операцию: рак лимфатических желёз. Она опять стала цветущей, нарядной (...).
Прошло 9 лет. В конце мая позвонила Полина и сказала, что Ирина в больнице, что надо идти к ней скорее. Можно не успеть.
Я знала, что у неё открылась ещё опухоль, что полтора года её лечат керосином, массажами. диетой.
8 марта я написала ей, и она позвонила и мягко выговорила мне, очень мягко: я не была у неё, а она думала, что я ближе, чем иные, я обещала приехать (...).
И вот позвонила Полина и сказала, что муж Ирины просит приходить к ней в больницу, и что Ирина умирает, что видеть её страшно (...).
И хоть лишний день жизни -- лишние муки, мне хотелось, чтоб она жила.
В ночь с 3 на 4-е у неё был муж, милый и трогательный человек, хромой от рождения.
В 4 утра сердце начало отказывать. Последние её слова были: "Лыбедь, реченька, сестрица", она их ему сказала, когда он склонился над ней.
А он забыл. Забыл, что это строчка из его песни:
"Лыбедь, реченька, сестрица,
я пришёл к тебе проститься..."
Она следующую не выговорила строку.
Я виновата перед ней.
Думала, что не нужна ей. (...) а она, всю жизнь обращённая к мужу и любящая, нуждалась во всех нас и во мне.
Прости меня. Писать не нужно было.
Но я не могла. Когда-то очень просто старичок священник из Владимирского объяснил жизнь души после смерти: душа -- это ваши думы о умершем.
(...) Где душа -- нет, не в моих мыслях, но где бы ни была, пусть простит, если сможет.
Не отмолишь уже ничего. Я не смогла рассказать, а всё говорила и говорила тебе (...). И написала, надеясь, что теперь смогу отойти от этих нескольких дней.
Но знаю: этот взгляд, мученический, строгий, будет со мной (...).
Июнь 1984
(...) Спасибо Сосинскому -- это из-за него я приехала из Вологды в 1976 году раньше; спасибо всему, из-за чего вдруг твои глаза засияли рядом. Девочка родная, не горюй. (...) ты такой мой прекрасный, добрый, русский, божеский и человеческий человек (...)
Вчера у меня был трудный день.
Напишу, если смогу, потом.
Родная, не сердись.
Я "женщина плохая и девочка нехорошая". И "учителька-отвратителька".
Твоя В.М.
Июнь 1984
"Человечество идёт к высшей правде, и я в первых рядах".
А.П.Чехов.
О второй части предложения ничего не могу сказать. С первой согласна -- несмотря на то, что после этих слов были две мировые войны, отравляющие газы, Белоруссия и Освенцим, несмотря на то, что мир так велик, что о "человечестве вообще" говорить трудно; через убийства, жестокости, преступления, оно всё-таки идёт к осознанию ценности одного человека, личности. К состраданию. Только вот жертв искупительных слишком много (...).
Июль 1984
...у мамы 4 июля парализовало правую сторону (...).
О том, что это Божья кара для меня, думаю, но тоже рассуждать не хочу. Надо выдержать. Лечат. Есть люди, у которых проходит. (...)
Первый день она жалела меня и говорила, что на Волгу я должна ехать.
Вчера я увидела, как это маловероятно.
(...) эти ночи я плачу, Волга -- я даже не знала, как это было мне дорого, я вижу города, которых никогда не видела и знаю только по картинам да по воображению, мне в Ярославль хочется, я шатровые церкви вижу белые. (...)
Сегодня 7-ое июля. Если вдруг чудо, вдруг станет хорошо, так хорошо, что Волга сбудется, -- но я не верю. Я несчастливая. Четыре лета подряд: инфаркт, воспаление, инсульт теперь.
Я не ропщу. А больно.
Хочу, чтоб ты поехала. Знаю, что должна я быть с тобой.
(...) слышу -- Волга -- и плачу (...).
17 августа 1984 г. Киев
Родная моя, никогда не забуду того добра, которое творишь ты для меня: того духовного возрождения и обращения к правде, которое я пережила с тобой, твоей доброты сейчас. Господи, сколько терпишь ты из-за меня и как не прощаю я этого себе (...) прости меня.
"Чучело" и "Жест. ром." я смотрела. Ты права: Чайковского не хватало и грачиных гнёзд. А Лариса мне показалась такой прелестной, милой, интеллигентной, что я многое Рязанову простила (вначале его, рязановский, текст очень резал мне слух).
А "Чучело" -- правда, кроме того, что дети скорее всего 7-8 кпассники. Первая четверть после 5-го класса -- это как-то уж непохоже. А правда, что почти в каждом классе есть человек, которого, не замечая, топчут, а иногда и сознательно это делают. Девочка -- прелесть. Пугачёва может ею гордиться. Гонят её под мамину песню -- и это тоже правда -- дети, воспитанные на Пугачёвой.
Я очень благодарна Быкову.
И наша учительская глухота тоже очень хорошо вышла у него: благообразная директорша и учителька-отвратителька. (...)
Твоя Верка, всегда тебя любящая и тобою восхищённая. И не отговаривай меня. Целую. В.
8 сентября 1984 г. Киев
Родная моя, так плохо стало, когда ушёл твой поезд, а всё потому, что в последний раз не взглянула на тебя.
Потом позвонила Полина. (Сослуживица Веры. Т.Н.) Она так просто и хорошо сказала о твоих стихах, что мне сделалось тепло, будто похвалили моего ребёнка. И родные глаза твои, слезами омытые, опять засветили:
-- Ведь это ты правда так подумала, да?
Родная моя, свет мой пресветлый, душа моя.
Ты опять возродила божество и вдохновенье, твои слова (...) заставляют меня быть лучше и чище.
Спасибо, ангел мой. Твоя В.М.
14 сентября 1984 г. Киев
Солнышко моё,
платье -- прелесть, спасибо, голубчик (...).
Целую тебя и очень помню. Очень. Но пока не пишу, прости. Круговерть (...). В.
Киев. 25 сентября 84 г.
(...) Лина7 умерла 19 сентября, после двух с половиной суток беспамятства.
В воскресенье она была у мамы, завтракала с сестрой и Владимиром Леонтьевичем и так попрощалась, что мать, заподозрив беду, послала Ирину вслед за ней. Лина успела открыть дверь и назвать снотворное, которое она приняла (сорок таблеток). Просила не вызывать скорую: "Мне стыдно. Мой организм и так сопротивляется". (Началась рвота). Сестра вышла за питьём на кухню, а когда вошла, Лина была без сознания. (Скорую вызвали).
Не приходя в себя, она умерла в среду. (...) Я всё о ней думаю и понимаю, как мелко было то, что казалось мне разъединяющим нас. Умер добрый и благородный друг. Можно было прийти и пожаловаться на жизнь. Постучаться и сказать: помоги!
Был салон -- ну что ж. Но был, теперь уже навсегда это слово -- был -- друг, был добрый дом.
24 года тому назад 18-летняя девочка Лина спросила: "Вера, а вы любите Окуджаву? Приходите ко мне слушать записи".
Был праздничный, добрый дом, была красивая, темнобровая, с прекрасными косами мама, и я в первый раз слушала "Один солдат на свете жил, красивый и отважный..." Я промолчала весь вечер. А потом она приехала ко мне в Ленинград.
Самой удивительной она была тогда. У Лебяжьей канавки она сказала: "Вера, знаете, я написала шедевр", -- и прочитала: "О как я хотела прийти к тебе в дождь". (...)
Она читала стихи -- не свои, очень много стихов, она запоминала их с первого чтения, как музыку (...).
Мне больно, что найдётся не один язык, который разберётся во всём и найдёт причину, и загрязнит и оболжёт её;
но почему она не выдержала жизни, она, любящая и любимая, измученная жизнью? (...)
Страшный урок.
(...) Что было с ней в последнее утро, что почувствовала она после разговора с Владимиром Леонтьевичем, никто не знает.
Не надо отходить ни от кого, кому нужен
Прости, родная моя.
Твой голос -- моё спасение...
___
7 Лина Ошерова, киевская поэтесса
Киев. 6 октября 1984
(...) уходят дорогие люди: Лина, Евгения Герасимовна (через неделю после Лины).
Человек, убивший Юру, убил и её: она прожила год и 4 месяца после смерти брата-друга и ушла от болезни крови.
Милая моя, возьмёмся за руки, будем верить в то, что жизнь наша нужна, что можем ещё любить и утешать, что тяжка нам не только наша боль.
Мама Лётти Тарасовой прислала мне трогательную телеграмму без подписи 30 сентября. И я подумала: у неё умерла дочь -- она всё потеряла, могу ли я сравнить свои беды с её страшной бедой, горем ("Я просыпалась и смеялась от радости, что она у меня есть") (...).
Евгения Герасимовна умела делать добро достойно, без моих срывов -- и какое великое добро! Она умела делать то, чего я не умею, но ведь могу же и я что-то/конечно, вернуть зрение -- это ни с чем не сравнить./
(...) это великое благо для меня -- встреча с тобой в 1976 году.
Все эти годы ты была и осталась для меня другом, светом, совестью.
Береги себя, ради Бога береги себя, ради меня береги.
Не стоит вся эта болтовня твоей боли, не все люди говорят вполне осознанно, Бог с ними.
Боюсь, что из некоторых моих товарищей по оружию такая бы грязь и тупость попёрла, если б пришлось сидеть с ними в одной комнате!
Но у меня дети, и пока они есть, буду работать.
В Киеве напечататься? -- дружок мой, у меня нет потребности писать. Что делать? Ты выдумываешь писательницу (меня так дразнили взрослые в 6 лет). Милая, не горюй. Несмотря на весь этот ужас не горюй.
Есть ты -- я буду жить и верить.
Твоя В.М.
Октябрь 1984
Глупёныш мой, --
наговорил своим удивительным голосом всё, что не думал, воспитал и улёгся спать. (...) Сероглазый мой ангел, ты не думаешь того, что сказала.
А ты меня держишь на свете.
Воспитание -- вещь долгая и неблагодарная и получаешь за неё синяки и шишки (дядя Миша Дудин). И всё же, несмотря на мою дубоватость, ты меня воспитала. Ты заложила (или поддержала) какие-то жизненные основы, приносящие сознание своей (несмотря ни на что) нужности; ты оказалась терпимей меня (а я своей терпимостью чуть не хвасталась - Ромэн Роллан, а не Малева!); ты научила меня отвлекаться от мелочей и видеть мышиную возню там, где я видела серьёзные поводы для обид и горьких мыслей. Ты удивительно умеешь отметать суетное. (...) Жаль, всего не напишешь.
Музыка в душе, светлая музыка -- ты (...).
Ноябрь 1984
(...) Тревога. Сегодня смерть одной из милых сердцу -- Индиры Ганди.
Сильное желание написать её сыну. Дай Бог ему быть достойным памяти деда и матери.
Очень страшно от ненависти, разлитой в мире. Хочется кричать: любите!
Как счастлив, кто творит дело любви, для кого естественно состояние братства.
За что ей эти пули? (...)
Грех -- не идеализация, не восхищение.
Грех -- это суд -- и как эта заповедь трудна и права!
Веришь ли -- плакала при известии о гибели Индиры, мне Бог всё не шлёт покоя, т.е. успокоения. (...)
Мне тревожно. Что с тобой? Где ты? Откликнись.
В.
Киев. 11 ноября 1984 г.
(...) так хотелось сесть и неторопливо ответить на твоё письмо с державинским эпиграфом, а до праздников не вышло: заела рабочая суета и брестские переживания.
А ты не "пережила" свой талант, не греши.
В твоём письме есть удивительные строки, просящиеся в чеканный, мужественный и страшный стих: "...воля к жизни звенит" и т.д.
Я всегда думала, читая твои стихи, что когда-то ты придёшь к простоте и классичности (есть у тебя такие стихи), потом поняла, что -- произойдёт это или нет -- они будут мне дороги (...) чистотой и светлой мудростью. Друг ты мой, тебе дан дар слова, дар сказаться душой, ради Бога, не теряй веры в это.
(...) Стоит ли жить, если перестанешь удивляться красоте, таланту, духовности и душевности?
Нет, надо видеть правду, надо уметь радоваться людям и очаровываться -- и, видя недостатки (...), всё-таки видеть высшую правду -- и любить.
Я написала, что умею любить. Нет, ещё не вполне. Не доросла до евангельского понимания любви -- дорасту ли, не знаю.
Смерть Лины. Думбадзе. Милейко. Ганди -- для меня какая-то страшная цепь гибели добра. И доброты. И там, где за гибелью рок (Лина), и там, где злые силы и имеющие имена (Индира), -- всё это больно и кажется страшной несправедливостью и нелепостью. (...)
20 декабря 84 г.. Киев.
(...) Утром пошла во Владимирский помянуть бабушку. И это было чудом: в 8 утра, тихий собор, полутёмный, видна только Богородица, свечей немного, у входа торгует просфорами гладкая нестарая украинская баба в чёрном, приветливая, работает недавно, губы ещё не поджаты и не исханжилась; тихо-тихо, согнутая бабка бежит через собор, от Девы Марии тихий свет. Купила просфорки, записала Пелагею, Кирилла, Елизавету, Евгению, Георгия -- и вдруг тихо, светло, чисто на душе стало, как будто отмолила грех.
Вышла и поняла: не сохранить тишины в себе; но долго она ещё была, а к вечеру убила я её суетой и несоответствием светлого начала дня -- и всего его: из мелочей, очередей, отмывания грязи.
Родная, прости. Помни меня, мне нужно, чтоб всегда ты меня помнила.
21 декабря 84 г.
Танюша, ты одна умеешь меня жалеть. Это правда.
Прости меня за всё. Вчера нашла не отосланные тебе письма в ноябре, а была уверена, что отослала -- о свадьбе Сашки Бедова; а теперь уже и Элька моя вышла замуж за Ивана-царевича (тоже Сашу, и стала Ощурковой, а не Елишевич), парня с прекрасным русским произношением.
Счастье -- строительство, ты права; Пришвин прав.
А я глупа. Мне хочется его вдохнуть и забыть и забыться, наглотаться его, наплакаться и нарадоваться. (...)
P.S. А 19-го был Никола Зимний, престольный праздник в Селенском.
Танюша, милая, добрая моя, ты помни и прощай меня, ладно?
Киев. 7 января 1985 г.
(...) получила в день твоего рождения открытку с лебедями, с вопросом, который болью во мне отозвался и грустью: "Что это было?"
Родной человек и друг, Аввакум любимый, вчера мне казалось, что ушла печаль, а сегодня -- твои лебеди и твоя грусть. (...)
(...) О Долгорукой и её муже осталась народная песня да некрасовская строчка:
"Но мир Долгорукой ещё не забыл..."
В "Русских женщинах" это пушкинское напутствие Волконской.
Простота и правда, чистота её жизни -- удивительны. Когда ехала в ссылку, никто из родни не проводил, только чужестранка, её учившая, да крепостная девушка, не хотевшая расставаться с ней, -- а расстаться пришлось.
Ты права, когда видишь высоту духа в каждодневных испытаниях.
Девочка -- жена -- мать, какой подвиг. Мне всё плакать хотелось.
Два портрета -- юная, в парике и пышном платье -- и схимница Нектария с просветлённым лицом. Второй -- в Чернигове, как я его прозевала?
...Таня, Танечка, не надо помнить то, что ты всё-таки помнишь.
И я. Болит душа. Не позвонила тебе. (...)
Не только моя боль во мне болит. Много их. Но на подвиг отречения от себя я неспособна.
(...) 7-го -- твой день, и я всё время думала о тебе и думаю.
8 января
(...) Пожелай мне счастливого пути -- сегодня уезжаю в Брест.
Ты родной человек, Таня.
(...) Твоя В.
10 января 1985 г. Киев
Здравствуй, Танюша!
Вернулась из Бреста и получила твоё письмо. Не торопись говорить с девочкой. Не потому, что надо быть осторожным с их чувствами, а и потому, что надо жизни представлять самой очарования, разочарования и отрезвления. То ли сама влюблённость пройдет -- и останется прекрасное и благодарное чувство, то ли как-то по-другому это кончится (а может, и не кончится?) -- стоит поберечь человека, -- разумных доводов в таком возрасте и в таких случаях не слушают и творят себе кумира.
Впрочем, тебе виднее. Только ты так написала о ней, что мне жалко её стало, особенно почему-то, что она закурила на улице. Как у неё в школе -- не отверженная ли она там?
Я вернулась из Бреста с сознанием, что поездка не удалась. В крепости была добросовестная, знающая экскурсовод, но всё это было так обыденно по сравнению с тем, что мы слышали в первый раз. Тогда это была как будто прекрасная и трагическая песня, пронимало до слёз. Сейчас -- мероприятие.
А Брест -- это, конечно, крепость, крепость -- и боль, которую ты почувствовал или не почувствовал. А если не почувствовал, то не стоит ехать. И мороз страшный, и везли мы трудных детей (лучшие ехали 8 ноября).
Белоруссия мне очередной раз понравилась мягкостью, дружелюбием, отсутствием нашего родного киевского самодовольства.
Танюша, я ещё не вышла из двух ночей в вагоне и волнений и напряжённости поездки.
Прости меня. И дай Бог быть сейчас твёрже и добрее, внимательнее и сдержаннее (...). Вера
(Вложенная открытка)
Солнышко моё сероглазое, прости! Получила 3 кг фруктозы (Отцу. Т.Н.) и варежки.
Зайчище, вышлю деньгу, даже не сопротивляйся. 2-го февраля гречку отнесу Паскарям или Пескарям, как их там зовут.
Получила письмо о детях и Пономарёвой. Очень-очень больно и жалко страшно. Неужели ничего нельзя сделать? Может быть, есть народный лекарь какой-нибудь?
(...) В.
Киев. 20 января 1985 г.
Здравствуй, Танюша, милая,
Хрипота моя понемногу проходит, так что не беспокойся, мой родной весенний лопушок: Малева будет жить!
16 января был день рождения Лины Ошеровой. Я не осмелилась позвонить её маме, хоть никогда я так много не думала о Лине и не говорила с ней, как сейчас. Как не успела сказать ей всё, чем обязана ей, когда ещё можно было сказать.11
Нет, Чехов, конечно, не был грубым материалистом. Кто это? -- он сам -- автор или кто-то из его героев говорит, что умирает 5 чувств со смертью человека, а 100, может быть ещё продолжают жить.
Я ощущаю присутствие тех, кого люблю; когда-то у Ошеровых был знакомый священник (...). Этого священника я слушала давным-давно во Владимирском (по-моему, в первый и последний раз слышала, как пастырь говорил, просто говорил с народом). Он говорил, что души умерших -- это наши мысли о них. (...) У меня что-то странное сейчас. Лина, Ариадна Викторовна, Женя Милейко подступают ко мне живыми, присутствующими. Какая-то иллюзия физического их существования жива во мне и не проходит. Я и не прогоняю её. Это не жуковское -- с благодарностию: были, -- а что-то более сильное, напоминающее о себе, (...) что-то сильное и хорошее. (...)
И теперь я понимаю толстовское, такое простое: надо, чтоб они жили вместе со мной, чтоб не для одного меня была жизнь моя. (Там о живых, но и об умершей маленькой княгине). (...)
Киев. 27 января 1985 г.
Таня, родной человек (...) Всё это беспомощно -- в том смысле, что не расскажешь, а поднимается в душе удивительная /не это слово нужно/ музыка, вдруг среди тревог, мелочей, будней -- такая музыка -- ты -- просветлённая, мощная, освобождающая.
Только не говори, что это наивно, а то я себя глупой девочкой начинаю чувствовать и боюсь писать.
Утром сегодня бродила с тобой по Москве и видела твои круглые обиженные глаза:
--Ты сейчас плохо обо мне подумала!
Знаешь, мне молиться хочется кому-то всеблагому, чтоб не простил, нет, а поддержал, чтоб я была для тебя добром и светом, чтоб никогда не было тебе тяжко от моего непонимания, моей невыдержанности, моего эгоизма.
А простить меня можешь только ты. (...)
Сначала утром пришла твоя открытка, что я ошибаюсь в том, что неинтересна тебе. Я в слёзы -- от благодарности, утешения, умиления -- ты и писать умеешь, как говоришь иногда -- успокаивающе-убедительно;
а потом побежала к автобусу, за мной женщина -- лицо обветренное, руки красные, задубевшие, кричит громко. Мы вбежали в пустой автобус, кондукторша солидная, пожилая, рассудительная, и эту несчастную, красную, пропившуюся знает. И взялась она её так солидно поучать: вот я никогда бы, вот если не хочу пить, меня никто не заставит, ведь ты какая была хозяйка и т.д. А та очень кротко отвечала и рассказывала о пьющих подружках. Кондукторша потом мне сказала: "Она не обижается, а если б вы знали, какая женщина была и какими ребятами руководила, какая семья у неё была". И меня захлестнула жалость к той кроткой и уже явной пьянчужке. Не от того, кем была и кем стала, а оттого, какая она сейчас. С ней несчастье, и не в воле тут дело.
Мне иногда кажется, что этим людям что-то дано, чего я не знаю, и в пьющих женщинах я видела какую-то тайну, виноватость, страх. Ты не думай, что я поэтизирую пьянство, но больно мне за них (...)
Три вечера смотрела фильм о Неру. Объединимся в любви, а не в ненависти, -- сказал он. И чудо -- Ганди -- великий, юродивый, отец нации. Я завидовала. Нет, не завидовала, а чувствовала величие этой нищеты, отказа от себя, жизни подвижнической во имя бескровного освобождения огромного народа.
Объединимся в любви. И пусть над землёй поднимется белый флаг, не обагрённый ничьей кровью.. (...)
(...) А мать К. Васильева живёт под Москвой. И она рязанка. А полотна его под угрозой (...)
4 апреля 1985 г., Киев
Родная моя Танюша, посылаю Пришвина -- о "Капитанской дочке".
Повторяю о тебе: родная, родная.
Утром слёзы нашли на меня от радости, от светлой печали о тебе.
Благодарю Бога: при всём тяжёлом, при всех горестях и боли -- ты -- луч солнечный, ты -- река светлая, лес, ты -- человек мой.
Не сердись, чудо моё светлое.
Целую родные глаза.
В.
Киев. 14 апреля 1985
Здравствуй, моя родная,
со светлым тебя Христовым Воскресением.
И хоть -- Христос распят, но жив Иуда -- звучит горькой правдой, хочется радоваться сегодняшней весне, солнцу и всякому весёлому чириканью с улицы.
Заяц родной, наверное, я кажусь тебе то легкомысленной хохлушкой, которая легко плачет и легко смеётся, то мрачной тётенькой учительницей (учителька-отвратителька), а я, ей-Богу, не такая. Даже не знаю, как объяснить себя и оправдаться перед тобой, чтоб ты опять не подумала, что я не по летам наивна (хоть это во мне есть).
Ты уже в нескольких письмах пишешь о Соловейчике. Раньше он временами-местами казался мне наивным, и я его не принимала всерьёз. В последней статье есть, конечно, и педагогические благоглупости (это от взгляда снаружи, из партера, а не изнутри), несколько мыслей, наверное, всё-таки стоящих, а общая наша и его ошибка в том, что мы не понимаем: нам не дано предугадать... Сколько мы ни внушаем себе, что воспитание (целенаправленное, осознанное) -- это ещё далеко не всё, что яблочко от яблоньки, что человек -- это не провод под током, что голову не нафаршируешь истинами,
что человек неожидан, многолик, одномоментен, неоднозначен, -- мы всё-таки верим, что внушим истины -- и человек начнёт действовать соответственно этим истинам (оно, может, и так, -- но как внушить?)
(...) Что говорить: моя жизнь -- это общение с детьми, это любовь к ним и боль за них. Это звучит, наверное, хвастовством, я не имею права, как Сухомлинский, сказать: "сердце отдаю детям", но люблю их, с болью вижу временами своё бессилие, вижу их выросших и приспособившихся иногда подлейшим образом (а ещё в 16 был с идеалами), а то и нечаянная радость посетит: ты неожиданно был нужен, ты что-то внёс в его жизнь -- хоть тут я не обольщаюсь.
На днях (...) меня тронули дети, на которых уже 4 года влияет бестактная, неприятная, твердолобая тётка.
Моего мальчишку, второгодника Генку Хлызова она (кл. руководитель параллельного 7-го класса) обвинила в том, что он украл её авторучку за 40 рублей. ("Кому же ещё?") Генка не вор, человек, издёрганный жизнью, жизнелюбивый при этом, несдержанный, весёлый, добрый, крикливый. Когда меня позвали к этой ботаничке (...), она уже высказалась: он на перемене заходил в кабинет, ручки нет, он украл. Когда она повторила это при мне, с Генкой началась истерика. Мне пришлось схватить его за руки, обнять, вывести из кабинета.
(...) зашла опять в кабинет. И нашла ей эту проклятую авторучку и хорошо хлопнула дверью. Когда пришла класс, истерика началась со мной. Т.е. не истерика, конечно, а слёзы от потрясения -- из-за Генкиных криков, моего волнения и её непролазной тупости: конечно, это он, кто же ещё, и т.д.
(...) мой класс сидел и допытывался, что случилось (...) поговорили о постороннем, вдруг влезает Евгеша: почему её класс стоит под дверью, -- Вы им что, занятия назначили? -- Нет.
Вышла, отправила, часть ушла, человек 10 осталось. Они ждали почти час, чтобы попросить у меня прощения за выходку Евгении.
Слёз моих они не видели, насколько я расстроена и взволнована не знали, почему вдруг: -- Мы просим прощения за то, что случилось. Евг. Илл. -- несправедливый человек. -- Ребята, я не могу обсуждать с вами личные качества Евгении Илларионовны. -- Мы понимаем, но всё-таки она несправедливый человек, и нам стыдно, мы говорили ей, что Хлызов не брал авторучки.
На следующий день Евгения трижды просила у меня прощения и ругала моих детей и Хлызова, а я думала: существует сила сопротивления, поняли они, что мне нужна поддержка? Почему пришли? Почему расхлябанный Хлызов при пьющей маме, гулящем папе, неграмотный, не умеющий читать, любящий зверьё, бездельник, -- удивительно чуткий к боли и горю других, добрый, умеющий прощать (мне он пока прощал всё, а я бывала виновата перед ним, потому что школьная жизнь -- это котёл, это такое бесчисленное множество связей и столкновений, что не всегда уследишь за собой)?
(...) родная, не суди меня строго и люби. Мне очень нужно знать, что есть ты.
Ты для меня -- высокое и несуетное.
Ты не бойся, ты не идеальна -- это я понимаю. Но в тебе есть вечное.
И я люблю тебя, мой родной человек.
И не за это люблю. А люблю -- и всё.
Целую. Твоя Вера.
5 мая 1985 г. Киев
Родная,
ты уехала, а я отправилась тыняться по вокзалу (как будто это продлит время с тобой).
Мне было тревожно за тебя, я ощутила себя старшей (сегодня три молодых парня, оправдываясь передо мной, называли меня мамулей -- хорошо еще, что не бабулей! И еще это потому, что ты прелестно по-детски принимаешь сначала жизнь и искусство, а критик в тебе просыпается потом, впрочем, иногда он не спит с самого начала).
В тебе вдруг начинает такая молодость бушевать -- спасибо тебе, мой гений, мой ангел, мой друг.
Милая моя, не сердись.
Ведь нет у меня такого друга единственного, как ты (...)
Твоя В.
РОДНОЙ МОЙ ЗАЯЦ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
11 мая 1985 г. Киев
Родной мой и любимый Заяц, а так же Кис!
Ты забыла совсем обо мне?
Ты Чудо и Солнышко, ты Тепло моё и свет, и ты ужасный беспамятный Заяц, ты что, не понимаешь, что мне нужно твоё письмо? (...) Занимаюсь сочинительством: придумываю тебя. И себя. Целую. Вера.
Весна или лето 1985
...Твоя открытка с Пушкиным в минуту невзгоды. Я прочитала и глотнула твоего шахматовского воздуха (...) за это и ещё за многое спасибо.
За возрождение, за веру, за стихи твои -- они из чистого источника, а потому для меня -- дети твои -- и не могу судить. И не сердись за это. (...) Гейченко лучше (не сглазить бы). Ему сделали серьёзную и опасную операцию 26 мая, и сердце заработало. Сейчас он в Пскове.8
(...) Танюша, прости, что бессвязно пишу, я и правда пишу под слёзы. Сейчас иду сдавать личные дела моих учеников, иду на какие-то дикие анализы для колхоза, а тебя не увижу, как надеялась 28-го (...).
29 сентября 1985 г.
Весной я утешила себя: для чего живём? -- Живём для умножения в мире добра.
Этим необыкновенным открытием я с тобой, наверное, поделилась.
Вот и всё. Творить добро для всех могут творцы красоты -- я не могу. -- по мелочам всё, а любви во мне и впрямь много, могу поделиться, -- сосуд любви до дна не исчерпать.
Но ведь это неправда!
На скольких любящих людей мне не хватило действенной, а не умозрительной любви,
сколько было смолоду в душе бескорыстия, доброты, как душа начала осторожничать!
___
8 Семён Степанович Гейченко, воскреситель и многолетний директор Пушкинского заповедника, другом семьи кот орого В.В. Малева была 3 десятка лет.
19 сентября - Линина годовщина.
(...) Как это ни странно, ты начала возвращать меня к ней; когда-то я чуть не годилась широтой своих взглядов, но её-то мне и не хватило (...). Поздно и не нужно всё это теперь, ты и в Михайловском была права, остановив меня в моей легкомысленной сангвинической глупости.
Грусть во мне сейчас осенняя и почти постоянная.
Завтра Вера, Надежда, Любовь, маме исполнилось семьдесят, а Вовке сорок, а сколько мне, я и не знаю.
Мне, как "Слову...", -- 800, а может, 600, как Куликовской битве, а может, около 300 -- как прибытию евреев на Русь? Ей-Богу, не знаю.
Раньше думала: душа у меня беспредельная, мирообъемлющая, теперь душа уткнулась в грусть, толчётся в мелочах, не молится Богу своему.
А ведь какой смысл в молитве, в отрешении от суеты!
Прости меня, прекрасный друг. Думай обо мне так хорошо, как написала.
Спасибо, свет мой.
Твоя В.
13 ноября 1985
...А историю прекрасного князя Долгорукого (из украинского музея -- помнишь, -- с опущенными глазами -- князь-монах) я нашла. Он умер в Лавре 30 лет, потому что 20-ти лет сошёл с ума от любви к девушке-неровне.
Мать его -- известная Наталья Борисовна Долгорукая, урождённая Шереметева, оставившая удивительные "своеручные записки" о своей трагической любви и судьбе. Судьба удивительная, больно и трудно читать о ней; в книге Б. Хандроса "Всматриваюсь в лица" это первая глава -- "Любви верна", лучшие строки -- это отрывки из её записок. Она, постригшись в Киеве, в Флоровском монастыре, умерла через два года после сына (монашеское имя её Нектария), но главное -- её записки, такой слог (автор удивляется, что написано это до "Бедной Лизы", он не прав, это из сердца писалось о любимом муже, о бедах ссылки в Берёзов, всё это по-русски сдержанно и страстно. И искренне, --даже грешно эту искренность в заслугу ставить, так она естественна). (...)
Но я думаю, что ты, наверное, знаешь о ней /это о ней некрасовская строка "но мир Долгорукой ещё не забыл"/, и поэтому не хочу утомлять рассказом...
Февраль (?) 1986 г. Киев
(Открытка)
Заяц родной, отчего молчишь, почему не пишешь?
Очень жду. Родной мой человечек, что случилось?
Вера.
27 Февраля 1986 г. Киев
(...) сознаю, какое счастье -- ты, твоя дружба, твое присутствие в моей жизни.
Не уходи, не забывай, помни, моя милая, моя подруженька.
Ты понимаешь, что мы с тобой живём во времена перемен, жаль, что мне не мои верующие 20, а то бы полетела на огонь, а сейчас я слишком хорошо помню всякую классику, что хоть и повторяю -- дай-то Боже, нашому телятi вовка з'iсти, -- но очень боюсь огромного груза лжи и грязи в области духовной.
Каждый день у нас политинформации (...).
И спасение моё ты, и голос твой мне вдруг начинает звучать, и я иногда вдруг ясно слышу тебя или вижу, как ты укоризненно смотришь на меня, когда мелочи жизни лезут из меня. Ты Чудо -- и сама вполне не знаешь -- какое. Потому что есть в тебе то свойственное русскому московскому человеку чувство правды -- особенное, естественное, без потуг, искреннее, глубинное, -- понимаю, что не всякому оно свойственно, и не приписываю я слишком много происхождению и географии -- и всё-таки радостно, что в тебе эта правда ещё и этого происхождения.
Радость моя, Чудо моё, Друг мой прекрасный, ведь то, что так и осталось это чувство вершины, чистоты, правды, -- это ты сделала.
Спасибо тебе, родной человек, мой свет, моя правда, моё тепло в этом мире.
Какой разной являлась мне Русь, и ты -- один из прекрасных её ликов.
(...) Твоя В.
Конец мая или начало июня 1986 г.
Родная моя, прости,
так и уедешь ты в Мурманск, не получив моего письма. Родной мой, добрый, заботливый человек.
Танечка, Танюша, я понимаю, что происходящее достаточно серьёзно, но опасность без запаха и цвета действует на меня успокаивающе.
А потом: люди в Припяти и Чернобыле вышли из своих домов и живут у чужих людей (пусть даже каких угодно хороших), люди умирают в Москве от лучевой болезни, живут приговорённые, -- об этом лучше не думать, так стоят ли родные киевляне доброго слова со своими разговорами о миллирентгенах, сплетнями и паникой?
Хоть всё понимаю. Даже панику. Ерундой, конечно, занимались корреспонденты "Времени" 1-5 мая, расспрашивая киевлян: есть паника, нет паники, врут радиоголоса -- не врут. Пошли бы на вокзал и сняли сюжет, а не по Крещатику судили о нас.
Сейчас в Киеве нет детей -- пусто. Мы провожали свои 1-7 классы. Родителей на вокзале не было -- только милиция, учителя, райком, исполком. Пусто, автобусы с тихими нарядными детьми подъехали к вагонам -- больно стало.
Через два дня вернулись сопровождающие учителя: встретили их с музыкой, цветами, плакатами и минеральной водой, дети весёлые, поют и пляшут.
Леонора моя во время событий отдыхала в Закарпатье, приехала в Киев отпраздновать 9 мая, стояла у обелиска и плакала: так мало людей пришло.
А сейчас пусто без малых (...).
Жалко погибших, заболевших, тех, кого лечат сейчас в Москве и Киеве. (Киевлян среди них нет, т.е. погиб один самоотверженный врач киевский в Чернобыле, а в Киеве, в общем-то, никто не облучился). (Поспешная информация. =Т.Н.=). Вот только так много пищим, что одна знакомая сказала:
-- Мы -- столица всесоюзного мещанства.
Милая моя подруженька, изюм получила и лопаю, не беспокойся обо мне. Нет причин. Киев теперь -- мой город, моя родина и моя земля.
Горько это.
И ты была права: не знала я прежде горя. А теперь знаю и живу с ним.
Но жить надо. И помнить (...). Твоя В.
Киев. 30 июня 1986
Родная моя,
Детей оставили на второй срок в лагере -- это ещё 45 дней. (...) Ещё не решён вопрос о 8-ых классах. Их тоже хотят вывезти из Киева. Когда, куда, кто и надолго ли поедет с ними из Киева, пока никто не знает.
NB: вчера по киевскому телевидению была встреча с учёными и здравоохранением. Сказали киевлянам, чтоб они не ели крыжовника, чёрной и красной смородины, а остальное -- ели, чтоб купались, загорали, гуляли, окна открывали.
В Киеве же разговоры разные, в зависимости от отношения трудящегося к случившемуся. Кто рассказывает, 3-й реактор "дал трещину", кто говорит, что в прошлогоднем клубничном варенье есть радиация, а в днепровской рыбе чисто, ведутся и людоедские разговоры о чернобыльских детях и людях из километровой зоны.
Не особенно верю, зная, как легко придумывались цифры раньше.
Милая моя, у тебя был тревожный голос, а мне всё-таки тревожно за тебя: ты едешь в Киев. Я доверяю нашим врачам и нашим властям, но всё-таки! (...).
То, что случилось с нами, не изживётся скоро, а может быть, и вообще.
Не могу писать об этом, потому что просто нельзя и грешно словами всё рассказывать
Родная Танюша, ты такой мой друг, готовый помочь и защитить, ты такой искренний мой человек, что ты всё, конечно, понимаешь. Тяжко (...).
Прости меня. Ты прекрасный друг и человек. И 10 лет тому назад мы встретились, чтоб я ещё раз поверила в правду, чистоту и в Христа... (...).
...при тебе грех лгать (...).
23 июля 1986
Здравствуй, Танюша, я жива.
Нашла в записях выписки из дневника Никитенко.
"Читаю курс литературы Лагарпа. Какой он раб Аристотеля! Аристотель, (...) Блер, Лагарп -- все эти господа рассуждают о литературе как о каком-то ремесле. Вот так и изготовляют сочинения: трагедии, комедии, речи и проч., как башмаки, мебель, платья. Они не смотрят на словесное произведение как на проявление духа человеческого, стремящегося к всестороннему развитию в истинно благородном и изящном. Правило: подражай природе -- относится к самой низкой стороне искусства и заключает в себе лишь малейшую часть его. Это то, что мы читаем в пиитиках и риториках, в статье о правдоподобии. Другими словами: пиши для человека по-человечески. Но без идеалов нет изящных искусств. А если бы они и были без них, то не много оказали бы услуг человечеству. Нашему веку предоставлена честь возвратить поэзии права её, т.е. показать, что она есть жизнь, -- и лучшая жизнь человеческого сердца, что её назначение... пробуждение в человеке всего божественного, положительное прямое развитие всего благородного в его духе".
(...)
До свидания, Танюша.
То, что случилось, должно пройти. Мне это кажется Божьей карой за мой праздник в душе.
Я не прощалась, не думай так. То, что живёт во мне: (...) осознание нерасторжимого -- несокрушимого родства с тобой, -- это уже никогда и никуда не уйдёт...
Август 1986
...Ты слишком стала моей правдой (я могла начать с другого и много перечислить, но кончила бы этим), и хоть правда хорошо, а счастье -- лучше, но ведь ты и светлое счастье.
Даже не говорю, чтоб ты гнала мысль о том, что мы потеряем друг друга, мне кажется это несбыточным, невозможным, диким.
Понимаю, как прекрасно было в Михайловском в том 1976, и ты, читающая Рубцова. И как ты подпрыгнула, узнав, что я из Клина. (...)
(...) ты не бойся: не божество и не икону я творю, но я знаю то, что высоко и прекрасно в тебе, не могу же я не видеть этого.
А если Виноградовой будешь писать, то пусть и она почувствует, как прекрасна она, одержимая, сумасшедшая Виноградова, уж ей-то, конечно, не стоило срываться, хоть кто знает, каково ей. (...) ты умеешь быть спокойно-убедительной; может быть, ей нужна поддержка и понимание и сознание, что не стоит спускаться с высот(...).
29 августа 1986 г.,
Успенье Богородицы
Родная моя,
сегодня был сон -- не о тебе, о маме;
это вчера на кладбище подошла ко мне маленькая чистенькая старушка и начала говорить и молиться. Она говорила о Богоматери -- и хорошо как-то (так), что неудобно было дать ей деньги, но я всё-таки дала.
Она очень хорошо взяла и как-то с достоинством и интересно поблагодарила. Она шесть лет ходит на могилу к сыну. Она сказала, что Бог воздаст мне за помощь бедному. Но это было как-то сказано так, как будто она со стороны наблюдает и одобряет меня.
О сне рассказывать не буду. Может, это она намолила мне хороший сон и очень ясное сознание во сне, что мама жива.
Знаешь, родной человек, о твоём рассказе я хотела написать шутливую рецензию -- и не смогла. Тема серьёзная.
Ты, конечно, ничего с ним делать не будешь, а стоило бы, если б напечатали, сделать себя настоящим рассказчиком, а не героем-рассказчиком, ты ведь всё равно смотришь на себя со стороны: бабки смотрят и оценивают, священник и ты сама.
Будешь писателем, а не героем -- ты больше сможешь.
Я начала выписывать твои речения "по Лотману", а потом не смогла: всерьёз подсчитывать не буду, а ради шутливого выступления не могу: ты там Любовь поминаешь -- и не могу шутить, а благодарна тебе -- и всё.
Прости меня, дружок, я тебе начинала писать и не отсылала писем.
А это отсылаю домой и сегодня позвоню (...) узнать о тебе.
Не сомневаюсь, что всё с тобой хорошо будет, чувство, будто ты не в больнице, а живёшь в светлом мире, мною любимом. И хочется поклониться, и молиться хочется, и плакать.
До свидания, родная моя. Целую тебя. Вера.
(Вера ничего не поняла, приняв мой репортаж о посещении церкви св. Трифона за "рассказ"... =Т.Н.=)
Сентябрь 1986
...Ты успокаивала меня тем, что у тебя ничего не болит, а я, развесив уши, верила и не понимала, как и чем тебя колют. Милая моя, будем надеяться, что в центре лучшие специалисты.
Зайка родной, мне трудно что-то говорить, я совершенный невежда в медицине (...)
Милая, родная моя, тебе много тяжкого выпало с детства, Господь тебя и пытал (моя богомольная тётушка считала, что любя пытает), и одарил. Что касается твоего таланта и твоей талантливости (в тебе есть и то и другое), это и счастливо, и высоко, от этого и боль тоже. Как не ругай меня за отделение одарённых людей от обычных, а я обычна -- и понимаю, что твоя боль, если не больнее, то захватывает и выплёскивается сильнее (...)
...в пропавшем письме я вспомнила письмо А.К. Толстого Александру II (...) об отношении невежественного духовенства к старинным церквам. О духовенстве он пишет: "Что пощадили татары и огонь, оно берётся уничтожить". (...) я это совсем не в защиту невежд нашего времени, просто сочувствие боли Толстого о снесённых псковских церквах, о московских колокольнях -- древняя колокольня Страстного монастыря рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, а на её месте соорудили новую псевдорусскую колокольню /это ещё при Николае I, в 1856 году/.
(...) В Киеве будут восстанавливать взорванный в Лавре Успенский собор. А мне не по себе: будет очередная оперная декорация (вроде Золотых ворот). А я люблю старые камни. В Чернигове помнишь прекрасную Пятницкую церковь, сложенную из новенького красного кирпича? Но всё-таки пусть будет; может быть, потомки не станут взрывать, глядя на нашу восстановительную деятельность. Храм Христа Спасителя моложе, и живопись его, говорят, сняли (где она? Никогда не видела, из Киевского Михайловского златоверхого собора выставляют в Третьяковке, а оттуда -- где?), это легче восстановить.
(...) прости, отсылаю это письмо в том виде, как написалось, думаю о тебе всегда...
3 октября 1986 г., Киев
(...) Родная, спасибо за Петра Ильича, фигурой я, конечно, не в него, а в Танеева (...), а кусок (лучший) души у меня от него, его души и музыки.
Заяц, Спасителя восстановим, а фрески Дионисиевы? Погибнут -- и будем восстанавливать? Жуть. А всё верится -- не погибнут, авось, не погибнут. (...) Французы всякие (импр.) чтят превыше всех (как мне сказали на лекциях в институте) Мусоргского.
Но как сказала мудрая, как Земля-старуха, Валаханович: он-то велик, но душа-то где? У Петра Ильича. Даже в безделке -- в "Вальсе цветов".
(...) В.
22 ноября 1986 г., Киев
Родной человек,
откуда ты знаешь, что мне нужны такие письма?
Наверное, потому и знаешь, что родная ты.
Не думай, мой хороший, лопоухонький, что я совсем кисну: трудно, больно, сражаюсь со своими детками, временами обидно бывает, но что ж: надо жить.
Ты дала мне очень много: я даже не смогу это по-настоящему рассказать. Жить надо, даже понимая, что за прошлое -- молодость, радость жить, любить, верить -- наступает не расплата, нет, а выступает правда жизни, её проза.
Милая моя, Заяц родной, как хочется, чтоб тебе было тепло (...) Знаю, что от судеб защиты нет, что от горя не уйдёшь и о грехах помнить будешь, но отрешиться -- на день, только на день уйти в покой и свет: золотая изба, мурава, детство, баушка (так сёстры говорили) на печи всё одну сказку рассказывает, как барина волки загрызли,
и она жива, и крёстная мамина -- смуглая, чёрная, и всё у меня есть, только я не понимаю, что это счастье..
По вечерам девушки частушки поют, в лодочках, с дробными выходами, в Пасху яйца катаем на горке, к "колодчику" бегаем, и даже крестные ходы ещё застала -- ходили летом дождя просить на поле.
Пошёл? -- Не помню.
Вот оно и было счастье. Не понимала, думала: оно в другом, не было настоящей доброты во мне.
Всё приходит поздно. Надо жить. Надо, надо. И если суждено помнить, то ведь всем суждено -- и мне.
И не забудь про меня.
Заинька, я редко пишу. Не сердись. Работа меня завалила, но это не главное. Главное -- не хочется распускаться. В прошлый раз поплакалась в письме -- отослала, а потом стыдно стало: это эгоизм мой. Все крест несут, каждый свой, всем тяжко.
Милая, добрая, Чудо моё, как ты? Как хочется для тебя тепла; Паустовского возьму, если дашь, через год (речь о сценарии спектакля по мотивам "Повести в лесах", который мои ученики воплотили на подмостках МГДП и Ш в 1987-88 годах. =Т.Н.=),
милый мой, святой мой (представляю твоё негодование!) человек.
Твоя В.М.
1986 г.
(Открытка с репродукцией
"Девочка с персиками" Серова -- на обороте)
Родной мой, самый чистый, добрый, трогательный мой человек!
Милая, добрая, прекрасная моя подруженька, я помню тебя всегда, это счастье, нет это слово слишком часто говорят по всякому поводу, -- это жизнь, наполненная страданьем, правдой, любовью.
В ней есть боль, горе, память, вечная память о матери и сознание вины перед ней -- это на всю жизнь; но ты есть -- значит -- есть любовь, правда, верность; прости меня, если не пишу, то ведь не оттого, что не хочу или не помню.
Всегда, всегда помню (...) В.
Январь 1987 (?). Киев. Рождество
(Открытка)
Родная моя!
С праздником!
Да святится имя твоё.
В.
30 января 1987 г. Киев
(Шутливая открытка, написанная разноцветными фломастерами)
За - Ец!
Юнкор! Лапушка моя!
Скворушка-юнкорушка!
ЧудА моя ненаглядная!
Я тебя люблю.
Всегда!
В
С
Е
Г Анализы хорошие!
Д
А
С ТОБОЙ!
Зарылась в Пушкине!
И божество, и вдохновенье!
Целую!
В.М.
25.08.87 (?)
Заяц родной, Русачонок разлюбезный и ненаглядный, ну какой я пысьменнык?
Ты правильно оговорилась: женщина я, а мелодия -- ты права, печальная. Ты -- моя мелодия, ты -- моя тревожащая совесть, правда и Чудо -- и не думай, не обожествляю (...), но есть то главное, что дала мне дружба с тобой, -- самостоянье.
А ты, конечно, кроме всего прочего -- из необычайно-чрезвычайно интересных, неожиданных, глубоких и сильных русских людей, это я говорю совершенно издалека, не потому, что я тебя очень люблю, это объективно.
Мятежный, мудрый, необыкновенный мой дружочек,
Господи, чего в тебе нет: и от Буслаева, и от Достоевского, и от Чайковского, и детскость совершенная (...), и доверчивость, и взрослость, и ум, и терпимость -- друг ты мой родной.
(...) смотрю на тебя -- фотография 1980 года -- Печерск, весна, ты голову склонила -- содержание так и просматривается (...).
Заяц, пиши мне.
Спасское-Лутовиново явилось в самое светлое лето моей жизни -- 1969 года.
Зуша-то как там, бабки мценские, Стрелецкая слобода и "чуда" на пригорке.9
(...) У врача была, прописал травки, пью.
Ты, моё солнышко, заботься о себе чуточку больше, пусть твоя душа обо мне не болит: якось буде.
А ты -- Чудо! (...)
P.S. Да, мне сказали: слышали по "Маяку" выступление Симеона, в Мих(айловском) -- буря. Вырвало много старых деревьев и больше 10 лип (Керновских). Правда ли?
Сентябрь 1987
...о Смелякове -- со мной то же самое. Я выписала из "ЛГ" стихотворение (по частям оно было разбросано в статье, напечатанное не разделённым на строки). Не знаю, заметила ли его ты.
Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой.
Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок,
На нас бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок...
(...)
Знаешь, кричать хочется.
Ведь меня-то школа воспитала в любви к вождю -- и сколько жила во мне эта (...) вера, что не он виноват.
А теперь как будто и я виновата перед этими -- в бушлатах, моими земляками.
(...)
___
9 Танк - памятник
Хороший мой, добрый мой человек, -- после твоего письма почему-то приснилась мама -- молодая и весёлая, и я радовалась во сне и понимала, что мы обе с ней живы в каком-то другом мире. Я и во сне помнила, что это -- как в "Мастере и Маргарите", когда Азазелло отравил их, но радовалась, что я с ней -- и светло было (...)
...а сегодня вечер осенний, прохлада и ясность -- и вдруг из меня -- это.
Не забывай меня и пиши. (Это так. Я знаю, что помнишь, что ты друг мой и моё самосостоянье). Твоя В.
Середина 80-ых или 1988 год. Киев.
(Открытка)
Танюша, родная моя,
не знаю, где ты сейчас: может быть, уже дома?
У меня постоянно какое-то нервное желание уйти в скорлупу и заснуть -- и выспаться.
Сейчас неделя литературы -- читаем стихи, рисуем и завели кафе "У Пегаса". Лучше бы "На Парнасе".
Милая, милая, душа-то болит, как сказала одна бабка -- её душу, нешто выплюнешь?
От тебя нет письма. Милая моя, Таня, дружочек, родной человек, ты напиши. И опять спаси.
Твоя В.
7 января 1988 года. Киев
Родной мой человек, свет мой, моё добро, правда, Чудо сероглазое!
Дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе душевных сил, творческих сил.
И пусть твой талант хранит ту правду, чистоту и совестливость, что заложены в нём изначально (...)
Я твой друг и твой читатель, я люблю тебя, и ты -- добро, правда, тепло и свет.
Целую мою родную.
В.
Февраль 1988
...Не трожьте музыку руками.
Не могу принять никакого танца под Шестую. (Французы ставили когда- то под неё "Судьбу любви" -- им простительно).
Нет, не могу. Помню стол, за которым она написана, и окно в сад.
А вспоминать Надежду Филаретовну -- в шпагате -- от этого не заплачешь (т.е., может, и заплачешь с горя -- за что?)
Вчера Бакланов сказал, что Индира Ганди в Ясной Поляне сняла обувь и босая пошла к могиле Льва Николаевича -- это была её святая земля; это то, что Л.Н. называл китайским словом "шу" -- уважение вообще, ко всему, у них нет "шу", и ничего письмо не сделает, но напишу из любви к Петру Ильичу (...)
А уж что правда -- он тоже "доминанта в аккордах юности", он был во мне, и я была им (...) и его любила -- верно и надоедливо.
И люблю нынче.
(...)
... Сейчас объявили о сроках выхода из Афганистана, дай-то Бог, страшно только -- столько смертей -- и ведь сейчас ещё будут погибать.
Мир! Мир! Дай-то, Господи...
Февраль 1988. (Из Киева -- в Рублёво)
Родной Заяц, прекрасный Заяц, Рахманинов ты мой (...)!
До чего я завидую -- радуюсь твоей музыкальности, тонким рукам, серым глазам, синему свету. Вот так бы -- была бы художником -- написала бы -- (...) с тонкими кистями, со склонённой головой.
Заяц, не слушай моих глупостей; я работой завалена, и хочется про- дыхнуть -- в лес, в тёплый дом с деревянными стенами, в тишину, тепло -- и читать Гончарова, можно и Тургенева -- хоть на несколько дней!
Милая, милая. Родная, мой хороший и добрый человек, я думаю о тебе, помню тебя, но не сердись, вынырну из суеты (...)
Жить в суете нехорошо, а размеренно-достойная жизнь возможна разве что на пенсии? А ведь и туда не хочется, а хочется разумно, интересно работать, а работается по-разному, ой, Заяц, прости, глупо плакаться -- дети есть -- и Слава Богу!
До свидания, дружочек.
Пиши, я жду; где ты готовишь Рахманинова? Целую, родной ты Зайчина.
В.
10 Февраля 1988 г. Киев
(...) Ты спрашиваешь о киевлянке, полюбившей твои стихи. Это молодая, стройная, красивая женщина с театральным образованием, работает в Святошино где-то (где театр Вахтанга). Я постараюсь её найти, мне очень хочется найти -- красивая женщина с глубокой печалью в душе. Сохрани ей книгу.
Заяц родной, в журнал я напишу, потому что ты меня призываешь; боюсь, что это покажется слюнявой лирикой -- да так оно и будет. Цель -- вопрос о праве (нравственном) обращения к великой музыке -- и не просто великой, к музыке-исповеди, потрясению, обращаться к ней -- чтобы выразить себя? В танце?
Не трожьте музыку руками.
21 мая 1988 (?). Киев
(...) Вчера прочитала на ночь "Матрёнин двор". Конечно, моя детская деревня (это на 10 лет раньше, чем Матрёна у Солженицына) -- светлое прошлое. Вот тебе и восприятие ребёнка. Частушки, девки в крепдешине и лодочках (был ли то крепдешин -- или платье сельской учительницы по дороге в церковь запомнилось?), кукушкины слёзки, крашеные яйца, рассказы о Илье-пророке и нечистой силе, цветущий шиповник. И всё светло в той деревне. И не понимаешь ещё трагической невозвратимости и смысла ухода людей навсегда -- хорошо! -- утро, трава, особенная, с листиками, Господи, до чего хорошо.
А ведь, наверное, несладко было людям -- ведь я по стерне ходила и видела, как жали и снопы вязали (а я не жала и не вязала -- вот мне и светло, -- но болью отзывается ошеровская строчка -- так стонет по ночам безногий, босым ступая по стерне).
А "Матрёнин двор" -- горький какой взгляд и жизнь какая горькая. И ведь правда, и боль от неё. Первый раз прочитала по-настоящему (...).
Тревожно вдруг стало. Что с тобой сейчас. Ещё нет 6-ти, спи, дитя. Не сердись, что дитя. Потом напишу, почему не сердись.
Родная, милая, помнишь меня? В.М.
Киев. 26 мая 1988 г.
Дорогой человек,
Вижу твои обиженные глаза, и опять ты говоришь со мной, а я оправдываюсь, а оправдаться нельзя: ты друг, ты Чудо, посланное мне не за добродетели, а за веру. Я поверила в тебя сразу, и в моей жизни произошло чудо: ты, явление тебя в Михайловском.
Помнишь, как мы стукнулись лбами, обнявшись на Святогорском холме? До этого я думала, что такое может быть только у Герцена и Огарёва.
Милая, родной человек (...) ты Русское Чудо и Заяц родной.
Ноябрь 1988. Киев
...Родная моя, не знаю, за что мне досталось это Чудо -- твоя дружба и верность, ты удивительно верный человек. Не мне, а вообще. (...)
О болях не хочу писать. Но я согласилась бы на быт, лишь бы -- даже не хочу кончать. Боль во мне, а мужественна ли я? -- О себе не скажешь такого -- не из скромности.
Люди, не знающие меня (знающие в школе издалека), считают оптимистом. Одна милая женщина вчера мне сказала, что я счастливая. Она подозревает во мне ум и ещё какое-то знание, я её библейской правдой опровергла, и она согласилась.
Но скорбь моя не от многого знания -- здесь со мною всё в порядке, я умеренно образованный и не в меру упитанный..., но не будем об этом.
...Таня! Это дар мне, чудо, случившееся со мной -- за что?
Всё равно. Благодарю за него Всевидящего и Всеблагого, Александра Сергеевича, "вселенскую гостиницу" и Михайловскую, свет того вечера, когда мы обнялись у могилы Александра Сергеевича.
Я очень тебя люблю.
Храни тебя Бог...
1988 (?) или 89 год. Киев
(...) наверное, надо перечитать твоё письмо, но я не могу. Это -- как смотреть на рану. Даже не могу сказать, что ты неправа в чём-то. Нет. Я не представляю того, о чём ты говоришь. Мне не кажется, как прежде, моя или чужая жизнь бесконечной. Но конец твой при моей жизни я не могу представить даже теоретически. Не от страха, а просто не могу. Слишком уж ты стала моей жизнью, болью, другом, всем.
Многое для меня в этом твоём значении непонятно и загадочно. Почему? Я не знаю, что сказать тебе -- не в утешение, нет, а в оправдание себе, чтобы не думала ты так.
Переживать тебя -- в каком угодно смысле -- я не хочу. В тебе вечное. Ты пришелец, в моей встрече с тобой была предопределённость, и боль во мне не проходит (...).
Когда-то давно я не осмелилась быть свободной, теперь поздно упрекать себя в этом.
Я не жертвую собой. Отдаю долги.
Родная моя, прости. Никогда и ни в каких снах не могла представить, что в моей жизни можешь быть ты. (...) Скажешь, что опять вижу тебя другой, совершенной; да нет, просто вижу. Просто сейчас, в два часа после полуночи вижу тебя. Мне одиноко, неспокойно и неприютно сейчас, холодно, а ты всё- аки есть. И ты светишь мне. А нужен дом и тепло. Если мечтать всерьёз, то печь (камин) и деревянные стены. И птица под потолком -- деревянная -- на счастье. И выскобленный пол. И окошко в сад.
Это если мечтать. А если помнить, что есть жизнь со всем её несовершенством (...), то просишь у неё хотя бы мгновений счастья или отрешённости (да и счастья-то какого: не молодого, не безоглядного, а счастья -- согласия с собой). Родная, а ты не уходишь никуда (...). Ты спасение, ты боль, ты совесть и мир мой. Помни. Твоя В.
Январь 1990 г.
Танюша, родная моя,
ты права почти во всём. А в чём не совсем -- наверное, просто я не поняла. Только не ленива я, а может, и да, но в лени, в том, что (...) я держу в себе на привязи, в этой лени -- и защита.
Ты говоришь со мной, как с ребёнком, и от этого теплеет сердце, ты умеешь меня прощать, как никто, в тебе столько добра и милосердия, ты понимаешь меня, пожалуй.
Я толстая и обыкновенная, я люблю Гончарова, читаю куски "Обрыва" -- Марфеньку и бабушку (а в "Онегине" вдруг Ольгу увидела -- какая прелесть), отдыхаю на этих грядках, рощах и за едой (не брани), а боль всегдашнюю никуда не денешь. И о причинах её не расскажешь, потому что страшно -- высказанное сбудется.
Душа моя, мне сердце кто-то сжимает.
(...) Прекрасный мой друг, человек мой родной, прости меня.
Я отсылаю это письмо, оно второе. Буду писать (...).
Вера.
11.08.90.
(...) Ты уехала, через два дня вошла я в твою комнату -- и вдруг аромат твой и ощущение твоего присутствия.
(...) всякий раз твоё появление переводит меня в какую-то другую степень бытия.
"Hi, я жива, я вiчно буду жити, я в серцi маю те, що не вмирае..."
Это не обо мне.
Останешься ты, потому что веришь. Тебя тревожит моё неверие. Родная, понимаю (...)
Но --
Бог есть любовь,
Бог есть совесть,
Бог есть самоотвержение,
самоотречение.
Вера есть единение людей и растворение в общей любви и устремлении к высокому.
Я не воинствующий и не тупой атеист. Я с глубоким почтением отношусь к вере; к наивной, детской, бабкиной -- ещё с большим сочувствием, чем к сложной. Нет, не то.
К любой вере -- почтительно.
Православный храм мне ближе, чем другой, потому что в нём -- моё детство, детская вера,
пение и живопись во Владимирском соборе -- моя юность,
а если б пришлось креститься -- то только в Селенском. Если б я имела на это право.10
Не думай, что во мне говорит гордыня. Нет во мне того полного смирения, которое делает счастливым (...).
___
10 Вера Малева приняла таинство Крещения в середине 90-ых годов, в дарницком храме, посвященном жертвам Чернобыля.
А может, гордыня в том, что я хочу общения с Богом, не связанного никаким обрядом? (...) Хочу быть свободной. Боюсь сливаться и связывать себя. Хочу безусловной и бесконечной веры.
(...)
Киев. 2.02.91 г.
Родная моя, 31-го пришла из собора -- и твоё письмо в ящике -- о свече. Ты знаешь, какие-то совпадения -- несовпадения. Я в этот вечер поставила свечу у св. Пантелеймона-Целителя о твоём здравии -- и она так ясно горела -- и вдруг твоё письмо. Милая моя, родной человек, угодна ли моя молитва, не знаю, но я молюсь о тебе той Силе Вечного Добра и Любви, что есть в мире -- нашем ли, запредельном -- не знаю.
Пели "Всякое дыхание да славит..." -- хор стоял возле мощей св. Макария, в четверг его всегда поминают, один священник был с удивительным, иконописным ликом, остальные -- с нашими родными сытыми украинскими лицами, но пока звучало пение, можно было отрешиться от боли, горя и сомнений.
31-го я обещала (...) помянуть Ивана Фёдоровича11 (40 дней). Помнишь его?
(...) Он, конечно, святой русский человек, высоко простой и добрый; помнишь его книжки и портрет "царёнка", он попросил за несколько дней до смерти (...): "В последний раз на книжки посмотрю". (...) нам с тобой он сказал: "Читаю -- и всегда волнуюсь" -- и настоящее чувство в голосе. Мир его душе светлой (...).
Прости, родная. Ты мудра и права, во мне должно быть больше (...) деятельного добра. (...)
Спасибо тебе за всё то добро, тот смысл, что вносишь ты в мою жизнь.
Твоя Вера.
28.02.91.
Родная моя, хочу, чтоб ты вернулась домой и застала моё письмо, чтоб ты знала, что я помню тебя всегда так светло, как помнят лучшее, высокое, любимое в жизни.
Помню тебя, трогательную, сероглазую, читающую Рубцова, такую молодую, а потом -- Марфу Борецкую, а потом -- в Каменке.
(...) Знаю, что старше мы с тех пор стали, но что делать, если вдруг слёзы -- и не слёзы, что ушло молодое прошлое, а слёзы от сознания, что оно со мной, и ты со мной,
Мой прекрасный человек!
(...) Не могу просить прощения ни у кого, кроме тебя, и просила в воскресенье, когда все просят, потом прочитала
Патриаршье письмо, поняла, как надо просить, но всё хотела, чтоб ты там, далеко, это почувствовала, чтоб хоть чуть легче тебе стало -- "пускай душа окажется с душой его в сношенье" (так, кажется? -- только с твоей светлой душой; пусть уйдёт усталость, пусть отпустит).
Милая моя, родная, прекрасная Таня, светлое Чудо, помни, прости.
Твоя В.
___
11 Косохновский крестьянин. Старожил Пушкинского заповедника.
11 апреля 1991 г. Киев
Родная моя, много у меня снов в последние дни светлых и печальных, а сегодня снился дождь. И я была в повозке с крытым верхом, рядом немолодой (что меня удивило, потому что я была во сне молода) знакомый, хорошо знакомый, как будто даже любимый когда-то, но с незнакомым лицом, рядом с ним немолодая женщина в платке, завязанном по-крестьянски. Он протянул мне журнал, раскрытый на странице со стихотворением, в нём пропущено слово. И я не могу вспомнить. И вдруг просыпаюсь и говорю, как ты думаешь, -- что? -- горжусь, что угадал я искру божества, в тебе тогда мерцавшую едва -- т.д. Хорошо стало. Вспомнила тебя, не вспомнила, нет, всё время помню. Хорошо и светло, родная моя. Хочется светлой музыки. Пятой вдруг захотелось -- взлетела музыка, светлая и трагическая.
Светло надо жить.
Была 5 апреля во Владимирском.
Это мамина годовщина -- 5 лет.
Все были со свечами в соборе и на улице -- и те, что шли за плащаницей, и те, что стояли вокруг собора. А я всю службу плакала.
Что-то детское есть в людях, собравшихся в церкви -- и в этом хоре, что попроще (второго не видно), и в этом нашем маленьком, курносом митрополите, и в стариках.
Вчера у меня был в 5 классе (теперь 6) случай, ты меня, наверное, осудишь за него, но я не знала, как поступить. Что-то совершенно нелепое. Плакали двое -- мальчишка и девчонка. Он нашёл её крестик и не хотел отдавать. Требовал рубль. Она купила его за рубль в церкви, где-то в Мотовиловке. Он нашёл несколько дней тому назад и не знал, чей он. Требование рубля меня страшно возмутило, я объяснила, что значит крест, он снял его и отдал, а потом заплакал очень горько. Мне стало нехорошо, как будто я сделала что-то нехорошее, обидела ребёнка. (Он юркий, белёсый, прозвище у него Кузя -- имя Олег). Правда, Кузя-Олег так плакал, что я поступила также нелепо, как и он. Я спросила, крещён ли он, и подарила ему металлический рубль на такой же крестик. Ты мне говорила, что так просто крест нельзя надевать -- надо освятить, я ему сказала, но что из этого получится, не знаю. Случай, из-за которого я в недоумении. Понимаешь, требовал рубль, а плакал, как не из-за рубля, а из-за несправедливости и обиды, я его лицо и сейчас вижу (...).
У меня сейчас есть ещё волнения -- школьные. Говорила тебе о программе, которую составляю; не знаю, утвердят ли. Есть класс, в котором я на год раньше решила изучать древнерусскую литературу и XVIII век. Захотелось Карамзина. И захотелось естественным путём привести семинариста, чтобы рассказал о Феодосии Печерском, а не так, как нынче -- 3 часа в 9 классе на всю Древнюю Русь. Писала -- и дня 3 было почти счастливо. Сейчас сдала -- что-то будет. Откажут -- обидно будет.
Ещё неприятность -- 23 апреля открытый урок. Это крупная неприятность, и это отравляет жизнь, но ничего не поделаешь (...). Танюша, родная, ты помни меня. Хорошо? Не думай о стержне, не тревожься, это то, что у меня есть. А может, слишком хорошо о себе думаю. Не знаю.
Иногда устаю. Сплю. Потом вдруг оторваться -- и стать странником. И посох свой благословляю. Хороша свобода слияния с людьми и миром, когда ты знаешь это, а они нет. Ты часть, а им кажется, что ты не зависишь от них. (...).
Очень люблю тебя. И это правда и счастье моей нынешней и всегдашней жизни. Вера.
Киев. 10 сентября 1991 г.
(...) Настоящая моя родина -- Михайловское. Два последних дня вставала совсем рано. Накануне отъезда проснулась в Михайловском и ушла на Савкину горку.
Ведь могла уехать и не посмотреть на озеро и Дедовцы с неё. Туман был у Зимарей, а в Дедовцах петухи кричали и собаки лаяли.
Повернулась, вижу: прекрасный Саня Буковский свою дочь Арину в детский сад ведёт. Саня -- удивительный человек. Наверное, чуть младше меня, бородатый, с проседью, очень сильный (тятеньку12 поднимает и носит, как ребёнка), деликатный и умный.
Так вот: идёт Саня Буковский и меня не видит. Так и не увидел, а я вслед смотрела: деревня любимая, музейные работники возделывают огороды, тихое утро, а Саня ведёт чудную девчонку, белобрысую, весёлую Арину.
И пошла я к трём соснам. А потом поняла, что пора возвращаться. Вернулась на веранду, люди чай пьют. Неужто всё, последний год в этом доме, неужто попрощалась с Любой навсегда13.
Шла поздно вечером в Косохново -- и туман над Поляной. Низкий, белый. Лесная дорога -- это и о тебе память.
(...) Утром шла прощаться в Михайловское. Трудные дни были, а можно было пройти вечером по аллее к дому, утром выйти в сад и нарвать кислых и крепких яблок, душой успокоиться от Михайловского мира.
А с людьми я была удивительными и красивыми. (...) Приезжал Алёша Шестернёв. Мы с ним дежурили раза три.14 Он сказал что-то лестное насчёт моей несуетливости (или несуетности), но это не главное, с ним хорошо.
А у него очень красивое лицо, он верующий, как-то хорошо верующий и хорошо говорящий о вере (...); приехал из Ленинграда Серёжа (...) художник, человек с глубокими глазами.
Было у меня братское чувство ко всем этим людям и к Александру Кузьмичу Шамардину, немолодому, изящному украинцу-питерцу, в прошлом Гремину на сцене (...).
Киев. 9 апреля 1992 г.
(...) получаю такие письма разные; соберусь написать что-нибудь весёлое, и вдруг твоё письмо -- и веселье кажется мне неуместным. А предпоследние твои письма были такие, что душа отошла.
(...) А. Островского я вытащила и решила всерьёз прочитать "Снегурочку", -- и опять, как в детстве, как на первом в моей жизни спектакле: почему не могут нас тревожить погибель Мизгиря и кончина Снегурочки (или наоборот), почему солнце для всех -- жестоко к Снегурочке? (...) 25 апреля мы празднуем в Оперном на "Лебедином" с теми детьми, что тебя слушали.
Танюша, родная, я сентиментальна, ты права; может быть, это мне помогает.
Ты смеялась, что много чайников у меня. А ведь я помню, что с ними связано: "трактирный" -- мы все приехали в Клин, Вовка -- мальчишка, да что это рассказывать -- и впрямь, нельзя, "мысль изречённая" и т.д. Но чайники -- пустяк, что чайники, сказал бы какой-нибудь пьяненький или несчастный у Фёдора Михайловича, главное -- та боль, прости нелюбимое и часто употребляемое слово, что носит каждый в себе.
___
12 Парализованного С.С. Гейченко.
13 Покойной женой директора - Любовью Джалаловной Гейченко.
14 У постели умирающего С.С. Гейченко
(...) Ты пишешь о крещении, о том, что я поставила чуть ли не условием. Да нет, я не так глупа, чтобы ставить условия Всевышнему. Просто то, что во мне происходит, сейчас происходит, а не вообще, слишком моё, сокровенное, я сама всё решу: где, когда и от кого.
Надо побыть на свободе, в тишине и одиночестве, не хочу явиться перед Ним в суете (...) мне пока хочется одной сказать, без посредников то, что не могу сказать никому, то, в чём виновата.
Прости меня. Я помню тебя всегда. Твоя В.
Киев. 25 мая 1992 г.
Родная моя, хорошая,
сегодня последний звонок. Слёзы глотала. Как буду жить без школы, не знаю.
Перед этим днём были другие волнения -- выставляли оценки, решали, кому, что ставить за поведение. Решается это в кабинете директора; он, молодой, в меру упитанный, сидит за своим полированным столом с двумя телефонами и кнопкой, а мы тоже за дли-и-инным столом, и докладываем, у кого какое поведение.
Пойдут дети в институт или работать, и плевать будет всем на это поведение, но у нас страсти кипят. Мы стараемся поставить получше, а Петрович снижает: тот опаздывал, та курила в школе и т.д. После того, как он дважды надавил на п е д р а д у, моим двум парням снизили оценки, я с деревом и металлом в голосе сказала: "А остальные оценки пусть выставляет дирекция!"
Бедный Петрович вскочил, побежал по кабинету, закричал: "В.В., не становитесь в позу! Все вы добрые, а мне стёкла бьют."
Я примирительно так: "Ну я-то не бью директору стёкол, Александр Петрович". -- "Я на Вас и не думаю." Уселся. Это он обиделся на меня. Я накануне вполне материнским голосом ему сказала: "Напрасно Вы на нас сердитесь, А.П." Он, до этого кричавший, умолк, но представляю, что пережил.
(...) А сегодня, 25-го, все были нарядные, трогательные, возбуждённые (дети), а взрослые их искренне любили. Щемит сердце, когда понимаешь, что вот уходят, а ты чего-то не досказал, ничему не научил, не понимал их по- настоящему, да и они тебя не понимали.
И в литературе они любят, что попроще. Но я их люблю, как ни ругаюсь, а люблю. И когда появился Андрей Украинец. "Андруха", который уже в 8 классе все напитки перепробовал, а в 11 (10) его в милицию забирали за выступление в кинотеатре "Ленинград" (кажется, при тебе я водила его на заседание исполкомовской комиссии).
И вот стоит этот Андрюха, опустив голову, лицо отрешённое и чистое, грустно ему. А после всех речей, поздравлений, песен, цветов, мы слушали голос из-за океана и плакали. Плакали, конечно, девчонки, мамы и я. А голос был их классного руководителя, уехавшего 3 года назад. Она говорила так хорошо, так искренне и так рассказала им о них, что слушали они эту запись, не шелохнувшись. И когда она сказала: "Андрей, я хочу рассказать, как люблю тебя", -- я посмотрела на него. Что-то удивительное. Как будто впервые в жизни задумался о чём-то серьёзном. (...)
Родная моя, "Россию" (радио) трудно поймать. Украина перебивает, слышна, она, Россия, только ночью. Когда ты будешь говорить, позвоню, узнаю, милая, милая моя Таня.
Голубушка моя, ты меня всё за что-то благодаришь.
Тебе спасибо за то ощущение общего нашего дома, которое я пережила благодаря тебе. (...)
Киев. 2.06.92 г.
(...) Родная моя, добрый мой дружочек, вчера два твоих письма -- как Нечаянная Радость. Всякие волнения у меня -- сама понимаешь, ненужные дела -- наша самостийна держава смело вступила на путь застоя и опять ввела характеристики. Так что в июне мне придётся попыхтеть -- письма буду писать, но не художественные, само собой, не философские, а самые что ни на есть семейно-бытовые.
И вообще, люблю Ивана Александровича Гончарова. На Бунина у меня тонкости не хватает. Я им восхищаюсь и осознаю, как это художественно, тонко, щемящее, совершенно.
А вот Иван Александрович из Симбирска -- тот мой.
А я из имения Грачи. Да поросёночка бы мне жареного, да парк бы, а в парке дом с льняными скатертями и столовым серебром, да обрыв с беседкой над Волгой (в отличие от тёзки я б Марка Волохова уж никак бы не полюбила, а любила бы варенье да грибки солёные!) Русь, куда несёшься ты, дай ответ!?!
Радость моя, не сердись и не думай, что я с ума сошла.
Нелёгкие дни у меня нынче (не только из-за выпускных забот -- есть ещё беды, не обо всём напишешь, что-то и пережить надо).
Но -- несмотря ни на какую бесовщину, я в неё верю, в Русь. (...) И надо терпеть и работать (...). Жаль, жизнь коротка. И как просто, и как молитва -- из другого любимого классика: надо жить, надо любить, надо верить, что живём не нынче только...
Этим я уж тебе надоела, но прости и люби меня, если можешь.
Я твой друг, и мне хорошо было читать про тебя и Паустовского.15
А столетие Константина Георгиевича мы отметили почти на родине писателя (можно же Киев считать тоже родиной; гимназии поклонились, сухого вина выпили за него и других киевских гимназистов).
Белая акация зацвела.
До свиданья, дружок, Чудо моё ненаглядное, доброе, прекрасное.
Вера.
Киев. 22 августа 1992 г. (?)
Милый, родной человек, чудо, светлый мой друг, не надо так. Да святится имя твоё! -- это во мне и осталось, и боль, и благодарность, и свет (...)
Всё написать нельзя. Получится рассказанное чувство. А то, что в душе, -- бессловеснее, чище, живее.
При всех утратах вдруг сознаёшь в себе силу жизни и любви -- и неверие в возможность несчастья и гибели.
Не сердись на меня -- не знаю, что сдерживает меня. Я ещё жива, во мне ещё живо всё -- и вдруг невозможность высказать себя, страх быть непонятой и непринятой.
Говорю с тобой, измеряю очень многое -- важное и несуетное -- тобой, а ты не бойся идеализации -- её нет, я не могу ещё по-настоящему объять твою душу, и не надо, чтоб всё было раскрыто и понято, пусть будет и неведомое, и неожиданное.
___
15 Речь идёт, скорее всего, о конференциях памяти писателя на Ильинском омуте, в Москве и Солотче, некоторое отношение к торжествам имел автор стихов этой книги.
Твоя умиротворяющая мудрость -- вот никогда бы не подумала, что так она влияет на меня, -- а ведь влияет, твоя правда -- и твоё смятённое искание её, вся ты -- посланный мне свет, и страдание, и любовь. До свиданья, родной человек (...).
Киев. 22 августа 1992 г.
(...) Милая моя, родная Таня, я всё время помню тебя у берёзы, спасибо тебе, друг мой верный. У меня и сейчас сердце сжимается, когда вспоминаю, как ты меня провожала.
Да, нельзя никого идеализировать (а, может, кого-то и можно? Ну, почему так-то никого и нельзя?), да, смешно быть сентиментальным скептиком, когда тебе за 50, но
"жалок тот, кто всё предвидит,
Чья не кружится голова" --
и совершенно в этом согласна с Александром Сергеевичем -- "жалок... кому ум сердце остудил и забываться запретил"!
Заяц, любимый Заяц, только не говори, что ломлюсь в открытую дверь, да, ломлюсь, простая (не как инфузория, а как чёрная корова Зорька с белой звёздочкой на лбу).
И я тебя всё время помню (тут философ Никологорская удивляется простодушию и легкомыслию Малевой), ты дорога мне до умиления (прости), до сердечной боли (опять это слово!), думаю сейчас о тебе -- и плакать хочется -- добрый мой дружочек, свет мой.
В Питере всё время хотелось тебе писать из-за того, что ты мне подарила в нём добрые дни. Другой Петербург я знала: в 57 году шла по улицам под полонез из "Онегина"; сейчас он грязный, с разобранным Невским, к Екатерине не подойдёшь, в Михайловском саду по траве ходят дети (это мне понравилось), я загадала: если в метро возле Пушкина будут цветы... (страшно сказать, что я загадала: слишком много и для всех -- и о всей России), спустилась: сидит пыльный, серый Александр Сергеевич -- цветы лежат, как всегда, и когда б ни спускалась на Пушкинскую, всегда они были.
И ещё хорошо мне было от музыки: в Петергофе музыканты в камзолах и париках играли XVIII век. Особенно очаровательны были юноши -- флейта и скрипка, дуэт в начале аллеи, весёлые молодые глаза под белыми буклями, изящество, юность -- и Моцарт.
И очень сильное впечатление -- настоящий большой голос в уличном переходе поздним вечером. После плохонького спектакля в театре Комиссаржевской спустились с сестрой в переход, почти пустынный, и услышали пение. Я сказала: "Запись". Сестра сказала: "Живой голос". Какой голос! Слушали мы и уличные музыканты. Забыть не могу.
Удивительно красивый, без сладости и любования собой звук -- и свобода, самые высокие ноты без напряжения -- от Бога? или так научили петь? -- и в переходе -- нескладная фигура, смущённая улыбка. И такой голос.
И ещё один раз воспарила: в Фонтанном доме. Сестра повела меня в музей Ахматовой. И опять человек. Мы прошли два зала и увидели группу -- человек восемь. Вела их очень худенькая, Лев Николаевич сказал бы "странно худенькая", с неземным взглядом (глаза огромные, карие на бледном лице, тихим голосом, оказалось, утром был приступ астмы) девушка.
Это была поэзия, отрешённость от мелочей быта и сплетен, она сама, казалось, пришла из Серебряного века, в ней не было рисовки, а был истинный артистизм -- стихи она читала по-настоящему, как вы, поэты, читаете; удивительное существо, вдруг жизнь поднесёт Тебе дар -- встречу. Она искусствовед, работает в фондах музея, её упросили провести эту экскурсию -- не было экскурсоводов. Господи, спасибо тебе за это изредка даруемое чувство полёта и отрешения от суеты. (...)
Киев. 27.09.92 г.
(...) Сейчас ночую часто в пустой квартире (сослуживицы), книги меня успокаивают и отсутствие телефонных звонков. Взялась читать хороший дамский роман -- и прочитала за две ночи почти -- хорошо; дней и особенно раздумий не стоило на него тратить, но я и плакала, и чувствовала себя девчонкой, потихоньку от старших читающей ночью. И была одна бессонная ночь -- о тебе. Я говорила с тобой и пыталась объяснить себя, -- нет, не оправдывалась и не доказывала ничего, а просила понять. Всё равно себя никому не расскажешь, всего в себе и сам не знаешь, а вижу ли я тебя и ту непостижимую глубину, что в тебе? Так что нечего жаловаться.
От романа времён гражданской войны в Штатах (...) я перешла к прозе Мандельштама и влезла в статью о Чаадаеве. Мне захотелось переписать для тебя 5-ю главку -- "Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим... Туда, где всё -- необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принёс нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращённый...
(...)-- Наделив нас внутренней свободой, Россия предоставляет нам выбор, и те, кто сделал этот выбор, настоящие русские люди, куда бы они не примкнули. Но горе тем, кто, покружив около родного гнезда, малодушно возвращаются обратно!"
Меня смутил конец: я малодушно привязана к родному гнезду. Потом поняла, что неправильно истолковала мысль.
И ещё испытала умиротворение от статьи о Блоке:
"-- Поэзия русских символистов была экстенсивной, хищнической: они, то есть Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый, открывали новые области для себя, опустошали их и подобно конквистадорам стремились дальше. Поэзия Блока от начала до конца, от "Стихов о Прекрасной Даме" до "Двенадцати" включительно, была интенсивной. Культурно созидательной...
Поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить её в зависимость от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой пришёл Блок..." (...)
Милый мой дружочек, человек родной, не сомневайся во мне ради Бога.
Не знаю, сколько мне отпущено ещё. Но надо держаться, и твоё последнее письмо -- помощь и утешение...
..............................
P. S. А класс, где ты читала лекции (...), на днях кричал:
-- Почему мы не идём на "Хованщину"? Почему мы пропустили "Лебединое озеро"?
Спасибо, Татьяна Андреевна! (...)
Солнышко ты моё, шути чаще, мне легче жить, когда ты шутишь!
Киев. 13 ноября 1992 г.
Родная моя,
Радость моя,
как хорошо, что ты приезжала, как хорошо.
Проснулась в "чотири години 39 хвилин"; тихо, телефон работает, гудит, время сообщает; на столе стоит питьё, приготовленное тобой, и весь дом ещё полон тобой. Спасибо, мой прекрасный друг.
Открыла Жуковского, почитала письмо Василия Андреевича, в нём искренности, страдания и мудрости больше, чем благостности; благостный Жуковский -- привычное сочетание (...). Прости, моя родная, за пространную цитату, да ещё такую известную. Это писано в ноябре 24 года (12 ноября -- там, правда, после 12?) представляешь, день твоего отъезда, прекрасный вчерашний день, я благодарна тебе, ты подняла меня, я поверила в себя, а в сердце и памяти -- ты (...).
Молюсь за тебя, в сердце свет, щемящая боль (...).
Киев. 21 декабря 1992 г.
Танечка, родная моя,
при нынешней почте, не знаю, когда получу твоё письмо. Ради Бога, не беспокойся обо мне. Пусть нехороша я, нетерпелива, срывиста, ты в моей жизни тот человек, что оставлен Богом, чтоб чувствовать, знать, что жизнь моя нужна. Вчера подумала о несоответствии своего внешнего облика и человека, живущего во мне.
Как бы ни было тебе тяжело, не сердись на меня за то, что скажу: ты моя связь с душой мира, с жизнью; там в нутре моём, столько пепла, такая прикрытая внешним спокойствием безнадёга, а ты -- жизнь. Ради Бога, не сердись, это правда. Пишу и плачу, и нелёгкие это слёзы.
О крещении моём не беспокойся. Я окрещусь у русского священника и в русской церкви. Я решила так. Как сама понимаешь, я не националист, не шовинист, но Владимирский теперь -- автокефальная, была ещё в одной церкви -- не хочу рассказывать; то ли найду в Киеве священника, то ли подожду лета -- в Клину ли, в Михайловском, где-нибудь на Руси вернусь к своим истокам. Лучше бы всего в Селенском. Или в какой-нибудь глухой деревне.
Милая моя, я думаю о душе. Мир иногда так задевает и царапает, что в ней надо спасаться.
Танюша, родная, (...) прости меня. Боюсь обидеть тебя, задеть словом.
Я всё время думаю о тебе.
Спасибо тебе, мой человек, моё море и мой берег.
Твоя Вера.
10.03.93 г.
Здравствуй, моя родная;
сейчас, вот в эту минуту, вдруг остро почувствовала жизнь. Минута полного ощущения жизни -- с любовью, страданием, радостью, -- вот-вот слёзы прольются от этой полноты жизни или опустишься на колени и начнёшь молиться с благодарностью, болью, с таким чувством слияния, слиянности с Божьим миром.
Прости меня. Многое во мне вызывает, наверное, твоё неприятие, в чём-то ты и ошибаешься, а что-то видишь зорче других, потому что ты друг, посланный мне, -- может быть, не заслужившей этого.
Спасибо тебе за это чувство присутствия в моей жизни моего человека, за твоё присутствие в моей жизни, в мыслях, в сердце.
Не сердись на меня, если кажусь тебе недостаточно мыслящей, не умеющей философствовать и т.д. Я такая, какая я есть; умна я или нет, глубока или нет, посещают меня мысли о высоком? -- я пишу сейчас искренне, без рисовки -- не знаю.
Когда-то в детстве я подвергла себя суду, очень строгому, и стала тем, кто я есть сейчас.
Я боюсь опять своего суда над собой, ведь так хочется себя простить -- понимаю, что это слабость, что обращение к Богу -- спасение, Он рассудит, отдаться его суду легче, чем своему.
Последние строчки "Пиковой дамы" -- там "спаси и упокой" или "прости"? Я нуждаюсь в прощении. (Имеется в виду либретто оперы П.И. Чайковского=Т.Н.=).
Всё, моя родная. "Украинское" письмо не отсылаю. Посмотрела в него. Цитаты хороши, а мои шутки вымученны.
До свидания, родная моя.
Скоро мы увидимся. (...)
Киев. 9 апреля 1993 г.
Здравствуй, моя родная;
сейчас пели "Не вечернюю", и меня вдруг разобрало: спотухала -- слово странное, а ещё -- серо-пегих, -- и правда -- разобрало до тревоги, до слезы; завыть на луну захотелось; что отдать, чтоб вот так из сердца, из души спеть, забыть себя -- и в песне излиться.
Не думай, брат Аркадий, что мне хочется говорить красиво (в конце фразы я себя на этом вдруг поймала). Просто при всех тревогах других -- не от "Не вечерней", -- при отрезанной, испепелённой (это правда, это не красивость) части души, вдруг иногда (сейчас так редко) просыпается то, что раньше бывало, грело, возвышало над буднями (не хочется говорить -- буднями -- ходишь по комнате и читаешь стихи -- вот тебе и праздник), -- это умение воображать себя в каких-то удивительных положениях (...), ладно, нечего стонать, надо признать жизнь -- пусть без звона щита, но по возможности с мужеством и смирением.
Милая моя, родной человек, ты сказала, что я не помню, какое тысячелетие; наверное, ты права. Трудно мне выбраться из себя, из XIX века,
-- понимаю, что это не достоинство моё, но не хочется корить себя за это. Всегда у человека есть возможность двигаться вперёд, а у меня пока -- стремление погрузиться; сейчас читаю Лермонтова -- какой русский поэт, это я прочитала "Валерик" -- для себя, просто так, увидела будущего Есенина -- и вообще, удивительное русское стремление к правде и безыскусности. Нет, не стремление, а естественность правды.
Как-то не так говорю. Но очень понимаю. (...)
P.S. Твоё письмо от 8 февраля пришло 7 апреля.
Всё-таки письма от иностранцев в Киев приходят. В.
Киев. 11 мая 1993 г.
Моя дорогая,
остановился поезд, я добежала (вру -- дошла) до твоего вагона и начала просить, чтобы ты выглянула -- нет, нельзя второй раз прощаться -- не выглянула, всё равно спасибо за доброту, за ту светлую и щемящую сердце грусть, что осталась во мне и живёт. Я не подкармливаю её, нет, я достаточно бодро поднялась после богатырского сна; сижу в тишине. Пишу список дел (...) Не беспокойся, Заяц родной, буду лечиться! -- изживём склероз и кушингоидность в одной, отдельно взятой Малевой!
Васькина сирень о ж и в е л а, ожила, в твою комнату я зашла (...) и впрямь грустно: был друг, наполнял дом и жизнь, воспитывал, хвалил за редкие качества души, временами обличал, но был любящий друг, а теперь -- ?
Всё.
Надо жить, надо любить, надо верить --
Заяц, Заяц, прости мне мою несложность (...).
Вскипятила родниковую воду, напилась чаю -- вкусно.
Господи, прости мне мою глупость, мой материализм, мою необразованность -- какую ты книгу читала?
Какая мысль в последний раз пришла тебе в голову?
Что вы думаете о смысле жизни?
-- Не читала, не пришла, не думаю.
А-а-а, "Соборян" читала. Но это для услаждения ленивой души моей.
Я такая старосветская (это без кокетства). Сад бы мне яблоневый, варенья бы яблочно-вишнёво-малинового, тихих зорь, (...) колокольного звона тихим утром, росы и светлых дождиков, деревьев высоких -- и тишины.
А птицы? Что ж, пусть поют.
До свидания, дружочек, а то я так и не кончу.
Целую родного Зайца.
Твоя В.М.
Киев. 15 сентября 1993 г.
(...) вчера получила письмо и открытку от 3 и 6 сентября; слава Богу, почта начала ходить быстрее.
Ты хорошо пишешь о деде Павле -- светлой душе,16 неужели 100 ему; я раз его видела -- и навсегда запомнила (...). В нём было Божеское и человеческое, в нём была любовь. Он отдавался тому, что делал; помню, как он рассказывал, как отвечал на вопросы "учёного соседа", -- да, в нём были свет и добро. Слава Богу, жизнь одаряет нас теплом этих людей; иногда вдруг станет тяжело -- никому ты не нужен, а потом явятся люди, которые тебе нужны, разные среди них -- сложные и высокие, просто добрые, простые простонародно и высоко простые -- да всё разве расскажешь? -- явятся они тебе -- и думаешь: надо жить, как мой зануда граф писал, чтобы жизнь этих людей не была независимой от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе! (...)
Когда-то я читала биографию Швейцера, и поразил меня в ней не отказ от комфорта и славы (хоть я не смогла бы так поступать, как он), поразили меня слова его, что он всегда помнил, в чём превосходил его каждый мальчишка в Гюнсбахе (кажется, правильно запомнила).
Я как-то сразу поверила в искренность этого смирения; может быть, оно и помогло совершить подвиг.
Я помню, кто ты. (...) Ты -- необычный, талантливый и значительный человек.
Ты пишешь о Югановых 17(...).
...попробуй поверить, что их непонимание ситуации в 279-ой (школе) не от барских амбиций, и не думай ты каждую минуту, что сказать, как вести себя. Учу я тебя, а сама, конечно, не умею отвлекаться, проговариваю в себе обиды, иногда подолгу пережёвываю. Всё время вспоминаю рекомендацию питерских психологов -- не наказывать себя второй раз (ты мне когда-то это советовала) -- и не могу.
"Он умел не копить обид" -- это я запомню для себя.18
Милая Таня, родной человек, согласна и с твоими мыслями о том, чем семья держится. Только не буду об этом. (...) Помню тебя хорошо. Всё доброе помню, все твои заботы обо мне. Спасибо, моя родная. В.М.
___
16 П.Ф. Колесов, основатель и первый директор "Музея Танеева, Чехова, Левитана" (д. Дютьково, под Звенигородом Московской области)
17 Речь идёт об известных музыкантах А.А. Егорова и К.А. Югановой
18 Характеристика П.Ф. Колесова
Киев. 3 октября 1993 г.
Милая моя,
родная, родная до слёз, до того, что сердце щемит, когда думаю в тишине, без суеты о тебе.
Сейчас солнце выглянуло (...); грустно и светло, почему-то вдруг вспомнился перрон, серый, осенний, и всегда я думаю, когда встречаю: какой я увижу тебя. (...)
Недавно засыпала и говорила тебе: пожалей меня, пожалей; что-то вдруг страшно стало; а утром получила твоё письмо о (...) всепрощении. Теперь я виновата в том, что не пишу.
У меня прошёл уже страх, что ты меня не поймёшь или будешь оценивать стиль, глубину мыслей и т. д. Почему-то вдруг я осмелела: ведь дорога я тебе и глупая.
________
Пришли три твоих сентябрьских письма. Что случилось, не знаю, отправляла я письмо в Мытищи старой приятельнице родителей и тебе, она уже получила. Милая моя Таня, ты ведь прощаешь меня, и ты единственный человек, который меня любит. Т.е. есть люди, которые, наверное, тоже любят меня -- и здесь, и, увы, за океаном, -- но твоё отношение ко мне нельзя ни с чем сравнить, хоть иногда мне кажется, что ты видишь во мне качества, которых нет. (...)
Ты не поверишь, может быть, этому, потому что иногда я легко перехожу из одного состояния в другое и иногда болтну что-нибудь, за что долго бывает стыдно.
(...) И постоянная грусть во мне живёт, при этом кажусь оптимистом людям, не знающим меня.
Я не достигла того, чего хотела бы: сдержанности, благородства в общении с людьми разными, естественности и искренности (я не фальшива, но ты справедливо упрекала меня во всеядности).
И ещё -- великая и невыполнимая для меня заповедь -- не судите.
Очень стараюсь, но сужу, многое прощаю (...) и всё-таки срываюсь, грублю детям, бываю груба и несправедлива с тобой, любимым и любящим меня человеком.
Прости меня, мне очень нужно прощение твоё.
Родная моя, прощаюсь до следующего письма, обещаю, нет, чувствую, что буду писать.
До свидания, мой друг.
Вера.
Киев. 15 октября 1993 г.
(...) ...какая-то странно тёплая осень нынче; Юрка Блажиевский, автор "Двух монахов" (поэмы) и "Братской любви" (повести -- подражания Фёдору Михайловичу), ноет и уговаривает съездить в Белую Церковь.
Ходили они меланхолические, как тебе показалось, а на самом деле -- в прошлом взрывные, нынче более степенные -- на "Щелкунчика", и (...) Серёжка Кирицев сказал: "Издевательство над Чайковским: музыка орала из динамиков". Меня не было. Ещё о балете. Вчера приходили мои 37-летние дети из самого любимого класса; эти двое -- Тоня и Михасик /Саша Михайленко/ объяснились в любви в 10 классе на уроке литературы; у них долго не было ребёнка, наконец, родилась девочка; сейчас ей 7 лет; позавчера Тоня отвела её на "Лебединое", музыка была живая, не из динамика, Машка сидела во втором ряду, услышала начало вступления и сказала: "Похоже на Чайковского" -- дирижёр повернулся и взглянул; девочка росла в селе, непосредственная и какая-то солидно-спокойная на людях; дома, родители говорят, эмоционально реагирует на них.
А Антонина моя радуется -- так хорошо -- на "Лебединое" ходить, книжки детские читать, я как-то спокойно радуюсь её счастью.
Через неделю у меня будет лицейская годовщина -- с некоторым опозданием -- 22-го, потому что пятница -- удобный день. Дети -- это 7-й класс -- рвутся читать, играть, роли не учат, на репетициях прыгают -- пусть; мне хочется, чтобы им было хорошо.
Да, а о балете я не договорила. Забавная деталь. Т.к. Зигфрид и Одетта танцевали плохо, а Ротбард был хорош собой и пластичен, публика вызывала его. Девочке он тоже понравился; когда я спросила, что ей больше всего понравилось, она сказала: бал и орёл (она не может его вороном назвать -- слишком хорош, а говорит она по-украински, поэтому это звучит -- орэл).
Да, Петра Ильича мы помянём.
Я переписала твой список, проверяю Татьянину фототеку; она (фонотека) обогатилась: киевские профсоюзы отдают несколько библиотек под казино (даже сказать ничего не могу, трудно гаже что-нибудь представить, -- разве что вспомнишь, во что храмы превращали); Татьяна Зосимова забрала часть пластинок из одной.
Что ж, будем по возможности грести против течения.
(...)
О даре слова ты пишешь.
Дар слова -- это когда к нему ещё есть потребность создавать. У меня нет. У меня есть любовь, крепнущая с годами, к русскому слову.
Это моя среда, моя любовь, моё море -- когда закрываешь глаза -- и солнце -- векам тепло, и волны делают тело лёгким -- что делать, иногда мне кажется, что люблю его со взаимностью, а иногда -- нет (...).
Киев. 7 декабря 1993 г.
(...) Ты всё время присутствуешь в моей жизни, и не обижайся на слова "мой человек". "Мой" -- это не собственность и не требование внимания, "мой" -- это совпадающий со мной в чём-то важном. (...) Я не идеализирую тебя, но, кроме того, что ты знаешь о себе, -- о своём, нашем несовершенстве человеческом, ты удивительный человек. В тебе, кроме детства и юности (не детскости, а чистого и прекрасного детства), в тебе -- зрелость, мудрость, талантливость и талант (...), это чудо, это то, что зовётся искрой Божьей, и я не нарадуюсь ему в тебе, и побаиваюсь его, и люблю (...).
Ты призываешь меня что-то написать, напечатать. Душа моя, это смешно. Ты не понимаешь, что то, что тебе даётся само, у меня будет вымученно.
(...) Не знаю, что со мной нынче, ведь вся моя жизнь при мне осталась, а что-то ты мне подарила, внушила незаметно; не знаю, что ты сделала, только лучше и твёрже мне стало.
(...) А вообще конец ноября -- это ещё и хлопоты: рождение и, прошу прощения, пенсию надо оформлять -- представляешь? А я нет. Не пенсионерка я и всё.
Почему-то чувствую себя молодой.
(Хоть помню Трифоныча).
К чему бы это?
Дружочек мой, прощаюсь с тобой.
(...) До завтрашнего письма.
Твоя В.
Киев. 2.02.94 г.
Родная моя,
утром позвонили с почты, что 4 письма меня ждут, а почтальон не может попасть в подъезд. Все 4 -- твои. Даже интересно так, как будто повесть. И надо читать сначала продолжение, а потом начало.
Зинаиде19 понравились твои стихи (...). (...)
Хватит, никакая ты не "девочка", я это слово употребляю только в радостном смысле,
ты сама знаешь, что ты -- поэт.
А 3.Б. не только прельстилась близкими ей мотивами, она оценила в тебе поэта. Настоящего. Знаю, что пишу. Дело в том, что я отдала ей письмо и сборник на вечере Пети Миронова (...).
Вечер был в Доме актёра, прелестный был ансамбль "Украинское барокко" -- от 12 до 17 лет, виолончелист показался совсем ребёнком.
Петя читал свои стихи и поэмы -- библейские -- без кощунства и кривлянья, очень искренне и временами меня трогал; во время одной очень обычной строчки -- "не убивайте, люди", -- я вдруг почувствовала ком в горле и лёгкое потрясение -- так сказано было.
А ансамбль играл XVIII век.
З.Б. позвонила на следующий день и сказала: "Читаю Танину книгу. Сравнение не в пользу Пети. Это настоящее. Я и представить себе не могла, что она так пишет". О письме твоём она сказала, что это художественное произведение.
(...) Я помню тебя и ёлку ещё не разобрала -- жалко. До 25-го я решила её держать, а потом -- жалко стало -- зелёная, стройная -- и ты принесла её в дом.
До свидания, дружочек светлый, душа моя. (...)
Киев. 19 февраля 1994 г.
Родная моя, свет мой, душа и жизнь, я хочу, чтобы ты всегда помнила, что ты для меня значишь; ты моя духовная опора, чудо, посланное мне Богом неизвестно за что; может быть, не в награду, а для будущего, в котором мы искупаем (грехи? -- не хотела бы этого слова, а другого сейчас не скажу; не грехи и не заблуждения, а недостаточность опыта настоящей, Божеской любви -- к людям, к миру, к детям).
(...) в богатстве твоём духовном нет места злу (...).
Помнишь, у одного из рассудочнейших героев И.А.Гончарова: "Сердце -- глубокий колодец, никогда не дощупаешься дна".
Родная, ты существуешь для меня не только в твоей телесной оболочке, иногда я душой и всем, что ни есть во мне, ощущаю присутствие чего-то огромного, силы, поддерживающей во мне жизнь.
Отходят зло, суета, хочется молиться и войти в жизнь без мелочных обид, чистую (...).
Прости мне то, в чём виновата перед тобой, я плачу сейчас об этом, когда (...) пишу тебе.
И опять не сердись -- не идеализирую, совсем нет. Только вижу душу твою, чувствую её и понимаю, как велико, значительно, трагично и прекрасно то, что есть в тебе (...).
___
19 Врач, киевлянка
Киев. 22 июня 1994 г.
(...) сегодня был последний экзамен. Слухи о тексте диктанта для 11 класса ходили давно. Я думала, что среди всех возможных вероятнее всего Паустовский о лесе. Единственный раз угадала.
А сны в июне были разные. Один -- мы с тобой в Киеве. Возле Столбиков /так называется дорога от Днепра на Печерск/. И листьев много. И я говорю тебе: "Это не киевская осень. Это в Клину. Мама всегда говорила, что в Киеве такой красивой осени не бывает -- осин нет, красных листьев нет".
А утром я перебирала бумаги и нашла твой рассказ и вспомнила и поняла, за кого ты поставила свечку в той церкви, о которой писал Алексей Толстой царю.
В июне у меня тревожно на душе. Воспоминания очень живо подступают, но не хочу писать о них, есть то, что надо пережить в себе.
Из новостей общественных, а может, политических (?) одна удивительно отрадна: на Украине опять вводится изучение русского языка в украинских школах со 2-го класса (может, доживу и до возвращения русской литературы не в курсе мировой). Кравчук в предвыборных речах обещает введение 2-го официального языка -- русского. Мало я верю всему, что говорят, и боюсь радоваться раньше времени, но дай-то Бог.
Дали мне книгу Соловьёва; лицо у него было прекрасное, правда, с таким лицом можно и демоном быть. И принесли статью Мережковского о нём: точно; сестра его вспоминает, как в Светлое воскресенье сказала ему: "Христос..." -- и осеклась, не смогла договорить, такое у него лицо было, и конец хороший, он вывел её из затруднения. По его определению, я верю, верую. (В добро, существующее помимо моего разума, добро вовне, сущее Добро). Я не могу сказать, что мне легко читать его, но есть мысли, поражающие красотой и чистотой.
(...)
Киев. 25 июня 1994 г.
(...) Ты не можешь отказаться от анализа и оценки, мне роптать не на что. Тем более, что дала повод.
О вере могу сказать одно: она не та, что у человека, для которого обращение к Высшей Силе /нехорошо это сочетание, я хотела написать другое слово, но постеснялась своего прошлого/ естественно и каждодневно. То, что происходит во мне сейчас, я не могу рассказать. Но я благодарна тебе, судьбе, Богу: если даже не дарована мне будущая жизнь, если даже лопух вырастет (да простится мне это), я благодарна за то, что поддерживает меня сейчас. Я не стану экзальтированной верующей (...). (...) В храм меня зовёт что-то, я чувствую освобождение души, -- этого не должна была говорить, это не совсем так; объяснить, что я чувствую, не могу. Но сейчас для меня обращение к вере -- это мысли, работа; да, я знаю, что совсем недавно я была легкомысленна, и тебе трудно поверить в мою серьёзность. Да, на меня слишком действует пение, торжественность сводов храма и даже одежды священников. (...)
Вера, наверное, у каждого своя. И путь к ней свой. Прости опять. Это звучит банально, наверное. (...)
Медленно читаю сейчас Соловьёва и Розанова /мне принесли том розановских статей о литературе/. Это медленный труд. У меня и писатели есть (художники), которых я могу страницу прочитать и понять, как это прекрасно, -- и отложить --
"Прочитанное и понятое мною -- прекрасно. Непонятое, вероятно, тоже". (...)
Лето 1994. Киев
(...) Ю. Нагибин -- это и моя печаль. Царство небесное. И спасибо за Петра Ильича. Слава Богу, что успели снять Смоктуновского. Была в Ю.М.Н. печаль, была любовь, была музыка. И любовь к великому русскому искусству.
Мне очень хочется посмотреть его передачу об Аполлоне Григорьеве.
Мне подарили для тебя американский журнал на русском языке о Кеннеди. И вдруг в нём статья "Иностранные композиторы в Америке". Чей портрет вверху и в центре? -- Правильно думаешь. Из всех русских он один назван по имени-отчеству, два других просто Сергеями. Понимаю, что не это важно. И всё-таки -- Пётр Ильич -- как хорошо! (...)
Киев. 2-3 июня 1995 г.
(...) я помню всё время тебя так ясно и хорошо, что забываю о возрасте, зубной боли и не кряхчу от пеших переходов.
(...) Милая моя Танюша, смотрела я на сирень нарисованную и вспомнила тебя. Один очаровательный студент, лохматый, рыжий, продавал картину -- буйная сирень в хрустальном бокале -- и кричал: "Купите, всего 10 долларов! Скоро столько будет стоить букет, а тут картина, а ещё бокал хрустальный".
Картина была слишком велика, купить её и повесить в большой комнате нельзя, она для зала, а парень прелестный.
На Андреевском спуске плясали, сражались мечами длинноволосые русичи в кольчугах, вовсю визжал фрейлихс, его лихо отплясывали братья-славяне и братья-евреи, продавали персов (котят) и щенков голубого терьера, прошли кришнаиты с курносыми лицами, висело объявление: "Киевляне, вы-таки заслуживаете музея Подола от Кия до Салия". Была какая-то славная, доброжелательная толпа, было тепло, я прошла пешком до Крещатика, а назавтра опять пошла на Андреевский с подсунутой мне американкой. Ещё не убрали мусора, мне было неприятно показывать такой Андреевский.
Но у Булгакова нас так встретила Светлана -- удивительный она человек. (Речь идёт о директрисе музея М.А. Булгакова на Андреевском спуске Светлане Леонидовне. - Т.Н.-)
Было нас трое (третьего -- русича-сибиряка по рождению и жителя Киевской Руси -- привели чуть позже, он раза два задирался, но очень славно, и Светлане понравился).
(...) Милая моя, уходит май, уходит любимый класс, те. кого ты назвала интеллигентными флегмами: проплакала (впервые за много лет) последний звонок.
А сегодня утром -- опять ты -- светлый мой человек. Спасибо тебе, сегодня утром из-за тебя я опять молода. (...)
Киев. 16 ноября 1995 г.
Здравствуй, моя родная, с добрым утром, ангел мой сероглазый,
пять утра, спишь ещё, а я клюю носом над зошитами, над переводом с украинского. (...)
А во вторник был в Доме учителя поэтический вечер. Попросили прийти, потому что вечер памяти скромной и доброй киевлянки. Пошла из чувства долга: обещала подруге этой женщины.
Комната (зал) была просторная, столы стояли квадратом, кресла удобные, новые, в центре за столом девушка с великолепным бантом и гладкой головой, она вела вечер и читала, пожалуй, тихо, пожалуй, невыразительно, но это и хорошо, очень естественно получалось: стихи тихие, скромные, городские.
Потом пошли пииты-мужчины. Л. Вышеславский, наша знаменитость, в очередном костюме и галстуке от Кардена, говорил очень тепло, рассказывал, как он посещал Клавдию Игоревну в больнице и читал в палате стихи. Одно стихотворение он прочитал и сказал, что оно могло войти в любую антологию. В содержании, действительно есть что-то трогательное: к ней является двадцатилетний солдат, погибший на той войне, постаревший, и она удивляется: неужели и там стареют. А он пытается ей сказать, что она не изменилась с тех пор, что они расстались, но не договаривает фразы, потому что лгать он никогда не умел.
Все говорили тепло, некоторые покаянно, но они при жизни всё-таки помогли издать сборник, и то хорошо (она была учительницей французского языка).
Я заметила на небольших поэтических сборищах, что русские поэты у нас всё больше хвалят друг друга, сначала это меня смешило, а вчера я вдруг подумала: слава Богу, неужели было б лучше, если б ругали?
Потом выступила главная по культурной работе в ДУ -- и вот закрякал учитель! Сразу же сделала замечание молодым людям, которые вели себя вполне пристойно; но с пользой для себя услышала я, что есть музыкальная гостиная, в которой выступит поэт-философ Верлока. На поэта-философа я пойти не смогла -- у меня проза: родительское собрание. Провела я его с наименьшими потерями для себя: мило побеседовала с десятью родителями, которых мало чему уже могу учить. Да и никогда не могла и не умела. Поулыбались мы друг другу и решили встречаться индивидуально, закончить учебный год на "4" и "5" и сделать ремонт.
На будущей неделе в четверг я с их детьми пою, пляшу и развлекаюсь.
(...)
Целую тебя, родной мой человек, солнышко моё.
Твоя В.
28 ноября 1995 г. Киев
(...) Среди моих продолжающихся хождений в милицию и неприятных ощущений, с этим связанных, вдруг блеснула удивительная неделя, майский день, именины сердца. Приехал театр Шота Руставели, и Светлана Леонидовна сводила меня на 3 спектакля: "Евангелие от Якова", "Макбет" и "Кавказский меловой круг". I-й был "Евангелие..." -- меня испугало название, опять, думаю, будут потрошить Евангелие. Оказалось, что я глупая: Яков Гогебашвили (если не ошибаюсь) сто лет назад написал букварь, и театр просто прочитал этот букварь. Стройные женщины в длинных чёрных платьях и мужчины в белых рубашках навыпуск. (4-х ласточек тоже изображали они, только на рубашки было надето что-то вроде фрачных пиджаков с закругленными сзади фалдами, точнее -- обрезными -- под хвосты ласточек). Была огромная сцена -- зелёная лужайка, потом сверху облака, потом зажглись звёзды; слова актёры проговаривали удивительно. Сначала из-за картин вышли все молча и остановились и смотрели на нас, потом погас свет -- и зажёгся -- все спали на лугу; вышел ангел (так я назвала его, нет, её, -- белые одежды с мягкими складками от горла и ветвь в руках), он-она сказала: А, -- все спят. Ещё раза два: А. Наконец, кто- то из мужчин откликнулся: А. Потом женщина. На "И" было больше людей, а когда составилось из этих звуков слово -- ФИАЛКА -- началось оживление, движение; сцены были две -- мальчишка с рогаткой и учебниками идёт в школу и беседует с улетающими ласточками, и другой мальчик молится о здоровье матери.
В конце актёры читали свой букварь коленопреклонённо, а потом зажглись звёзды, и раздался колокольный звон, и я вдруг почувствовала, что почему-то слёзы у меня на глазах -- не от любви к ним, а от их любви к своему языку. Что-то удивительно чистое и светлое в этом спектакле.
На следующий день Роберт Стуруа был в музее Булгакова, он рассказывал, как они живут в Тбилиси. Зрители приходят в театр со свечами, чтоб передвигаться, не боясь, в темноте по улицам. В конце "Макбета" погас свет, зрители подошли к рампе с зажжёнными свечами; когда актёры доиграли спектакль, плакали все, на сцене и в зале.
"Макбет" был очень сильный и интересный спектакль, С.Л. не согласилась с леди Магбет (хотя актриса ей кажется талантливой), она сказала, что привыкла к тому, что леди Макбет -- скала, а здесь была изящная, молодая, яркая, нервная, подчеркивающая рефлексию героини актриса.
Мне показалось интересно. И много талантливых мужчин-актёров. А в "Кавказском меловом круге" были все талантливые -- и один гениальный. Это было радостью и потрясением (кстати, прошла я сквозь ОМОН -- по-украински это называется "Беркут" -- без билета -- потом он появился, билет).
А теперь музыки хочется. Вчера показывали запись апрельскую 91 года: Башмет, Каган и Преображенская играли Моцарта в Зальцбурге и Вене; господи, ну зачем работать, что-то покупать, крутить ручку от мясорубки, когда есть такая музыка. Природа немилосердно обошлась со мной, лишив меня слуха, голоса, понимания музыки. Но сознание недоступности и величия её, самого удивительного из искусств, во мне есть (...) В.М.
Начало 1996 (?)
Голубушка моя сероглазая, вспомни меня и пожалеем друг друга. Говорила тебе, наверное: Ира Ошарова сказала: "Мальва, не будем считать, сколько у кого горя, просто пожалеем друг друга". Дружок родной, светлый, защитись, сохрани себя, утверди руку писанием, сердце любовию; милая, милая, помни (...) ты друг единственный, это бывает раз в тысячу лет.
Перед Возрождением... Целую. В.
26.03.96.
Здравствуй, глупыш, Заяц родной и сероглазый, распушистенький!
Ну, не ругай ты эту Малеву, не анализировай!!! писем. Поведения.
Ну, глупая она. Ну, не философствовает. Что с ней поделаешь.
Родная ты моя, голубушка, вот сейчас отпустила работа, о тебе вдруг душа разболелась. Получила открытку и письмо, а также о Бродском вырезку. Он очень одиноким казался; что меня тронуло: он рассказывал, как в ссылке он в 6 утра шёл на работу -- и его согревала мысль, что он не один. Что где-то в его стране ещё поднялись и идут (наверное, наивно, но в молодости, когда я просыпалась и видела горящие окна в соседнем доме, у меня было тоже чувство братства). Что мне странным показалось: он любил "Мороз-Красный нос" и не любил "Кому на Руси..."
А я так очень люблю "Кому..."
Ну ладно, бывают причуды у пиитов.
-- Где живёт Бродский?
-- Где живёт, не знаю, а умирать ходит на Васильевский остров. (Из довлатовских записных книжек).
Заяц мой, я отсылаю этот огрызок письма, не сердись, а то я часто нахожу у себя начатые письма и неотосланные. (...)
29.03.
Голубчик мой,
Очень короткие каникулы кончаются. Встретила необыкновенного человека (не смейся), 79 лет, седую женщину, военврача в Великую Отечественную, киевлянку (Катерину Мусиевну. =Т.Н.=), глаза серые, живые, слушает удивительно, поёт, читает стихи, друг Вл. Киселёва и Лины; я была у неё в больнице и провела там чудные часы: удивительная сила жизни в ней. Живёт она в Белой Церкви (так случилось, что отдала внуку квартиру, а жить уехала к дочери). (...)
Да, села всерьёз за украинский: придётся взять зарубежную литературу в 11 классе в будущем году. Решила, что максимально увеличу объём русской в ней, но настоящую зарубежную надо будет читать по-украински (хоть несколько лекций). От этого некоторый дискомфорт испытываю (ни один язык не могу полюбить и свободно заговорить на нём, как на родном, великом и могучем).
Прости, дружочек, за эту сумбурную приписку. (...)
17.10.96.
(...) Читала сегодня утром о Павле Флоренском. Удивительные строчки в письме к жене о трагедии величия, и я подумала, что тебя это касается, потому что трагедия таланта (не защищённого, не торгующего собой таланта) тоже существует.
Открыла сейчас книгу и вижу -- соврала -- это не письмо жене, а просто из письма с Соловков: "Удел величия -- страдание, страдание от внешнего мира и страдание внутреннее , от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так -- вполне ясно, это отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия... Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданием и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жёстче гонения и суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома её..."
Милая моя, списала это и подумала: надо ли было писать. Ведь это с Соловков, из зимы и ужаса, созданного властью и людьми.
Ради Бога, не думай ни о каком конце.
У тебя много поколений верующих в прошлом. И не Зинаида во мне говорит, а ты во мне говоришь, и не тупо я верую (да и как верую -- мне не по себе бывает от этого, но рассказать тебе не могу: что ты скажешь, поверишь ли мне?)
И молюсь я за всех, за кого разрешают и за кого не велят, нельзя не велеть, я в этом согласна (с тобой). Но ради Бога (...), не надо отказываться от жизни -- чьего дара? -- не знаю, как продолжится она -- тоже не знаю, родная моя, я люблю тебя и боюсь за тебя. Пишу тебе не от страха, а любя тебя, светлую твою душу, научившую меня терпимости и вере. (...) Лучше пусть мне достаётся от тебя в каждом письме, но пусть ты будешь.
Судьба не должна так расплатиться со мной.
Родная моя, до свидания. Надо бежать в школу и успеть отправить письмо.
Ты дорога мне. Не надо так страшно наказывать меня.20
В.
Киев. 30 марта 1997 г.
(...) Ты знаешь, милая, не пишется вообще. Что со мной: усталость, приступы безволия, боязнь (...), -- не знаю.
Только услышала голос, сказала себе -- девочка; не сердись, я сентиментальна, когда твой голос звучит так, меня до слёз разбирает. Я засыпаю и просыпаюсь -- его помню.
___
20 Речь идёт об очередной потере работы и опоры в будущем у меня, о страшном мире постперестройки.
Родная, очень хочу в Браилов. Если я смогу в понедельник утром быть на работе, это вообще без проблем (с Федей-учеником я договорюсь). Если нет, придётся договариваться с начальством -- это последняя неделя учебного года. Поедем, дружочек. Я соскучилась по тебе, Петру Ильичу,21 по весне, природе, солнцу.
Во мне, безголосой и безслухой, музыка звучит, жаль, реже, чем прежде, а ты вся -- музыка, моё родное Чудо.
И сейчас почему-то вспомнила твою лекцию о 4-й (симфонии).
Удивительно хороша ты в моей памяти -- прости и не гневайся -- изящный и благородный облик. (...)
До свидания, мой голубчик.
Целую родные глаза. Твоя В.
Киев. 3 апреля 1997 г.
Здравствуй, родной сероглазый Глупыш! "Глазёны" отменяются -- и правда смешно и сентиментально, но что поделаешь, бывают минуты, часы размягчения сердца, души, мозга, думаешь и чувствуешь глупо и по-детски, видишь девочку, даже не из далёкого 76-го, а как будто раньше, ту, что с серьёзным взглядом на фотографии.
Прости ты мне эту сентиментальную муть, но что-то сердце вдруг сжалось -- Моцарта играют.
Несколько дней в марте просыпалась светло и счастливо -- как будто ты в доме, рядом; да, не наш общий дом, временное прибежище, но всё равно -- так хорошо было, как будто оттаивала, а потом пришло письмо от тебя.
"Старый холостяк" меня взвеселил, а в следующем письме даже растрогал.
(...) Весна наступила, работается как-то легче и радостнее, люблю детей больше, чем всегда: наверное, придётся проститься с ними. Классов будет меньше, уроков тоже, и один учитель русского языка лишний.
Я пока ещё ничего не ищу, в трудные минуты иногда помощь появляется неожиданно; ныть не хочу на глазах у публики, веду себя весело (т.е. спокойно) -- не хочу представлять себя без детей, т.е. я чувствую (себя) сейчас своей среди них, а не могу представить, что буду посторонней.
5-клашки есть удивительные, один написал, за что любит мои уроки; вышло -- не уроки, а мою манеру общения с ними; ему кажется, что я легко могу найти выход из сложной ситуации; это тот ребёнок, который сказал, что я "напрочуд схожа" на Заньковецкую. Не хвастаюсь, Заяц, а из сложных ситуаций не выхожу, остаюсь в них.
Родная, милая моя Таня, об очерке ничего не писала, потому что и так ясно: слава Богу, что можно сказать людям (...), его они стоят -- и правду сказать о том, что происходит, и спасибо за Игоря Писарева,22 он -- умный, интеллигентный, молодой (40 - 42 ?) человек (прости, зрелый),
отрадно, что ты поддержала его (...) Тяжко мне сейчас, но посильно; горько, но и хорошо. Как Стива Облонский говорил: "На последях веселее".
Целую тебя, мой добрый друг (...).
Твоя В.
___
21 В Браилове (близ Жмеринки) находится Музей П.И. Чайковского и Н.Ф. фон Мекк.
22 Журналист, защищавший традиционное Михайловское.
Киев. 15 апреля 1997 г.
Родная моя,
милый мой дружок, -- получила сразу два письма. У меня тоже бывают счастливые предчувствия, -- второе письмо оказалось таким добрым, что защемило сердце и щемит до сих пор. По экрану движется Штирлиц -- для оживления интерьера, а мне хорошо, хоть и тревожно (...).
(...) иногда вдруг вижу нас -- давным-давно, почему-то твои движения (...), меня трогало их изящество.
Не сердись: позволь мне помнить и девочку, читавшую Рубцова в гостиничном номере. Мы встретились, потому что я приехала на несколько дней раньше; было предчувствие -- оно сбылось, был страх (...). Страх прошёл не сразу.
Родная, не знаю, получишь ли ты это письмо до отъезда из Москвы.
-- Вставай, Нико! Христос воскрес! Люди радуются! (Смотрели вдвоём -- помнишь?)
В Прощёное воскресенье я с утра до вечера просила прощения у тебя.
Милая, родная моя, прости.
Горькая твоя надпись на конверте -- это из-за моего молчания; оно от усталости и страха -- чаще всего -- чем-то задеть тебя, ты ранима, а я иногда туповато пру на тебя с моими настроениями. (...)
Родная моя, я позвоню тебе в Пасху. Кстати, князевская мысль о Рождестве и Пасхе очень хорошо звучит и у Непомнящего. И они оба правы. Что делать? (...) Н. считает, что сознание Запада ориентировано на мирское благополучие, -- на роль праздника праздников Пасха при таком сознании не годится. Рождество -- акт торжественной любви Бога к человеку, Пасха же сверх того -- призыв к ответной любви человека к Богу, к осуществлению и торжеству христианского идеала, Божественного замысла о человеке. Исторический "жребий" России состоял в том, что пока в Европе зрели предпосылки "христианства с человеческим лицом" (использую ошеломляющую формулу одного из наших церковных модернистов), -- Россия встретилась, в "восточном", "греческом" исповедании, с Божественным ликом христианского учения, исторически мгновенно его приняла и на протяжении веков удерживала его как исповедание пасхальное.
Пасхальный характер культуры России определил проблему совести, проблему, переживаемую как драму вины.
"В совестном страдании главный нерв этой литературы, источник её метаний и вдохновений, её крест и основа её человеческого кредо, которое своей светлостью прямо противоположно западному -- по сути дела, глубоко трагическому -- культу успеха и счастья -- и которое гласит: я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Всё это, собственно, и есть природа того, что именуют...русской духовностью".
По Непомнящему, Пётр пытался сломать хребет православной культуре и переделать нацию в "рождественском" духе. "Но 7 веков после Крещения не могли провалиться в небытие."
Прости, Ангел мой, столь обширную цитату. (Ругаешь меня?) И потом, то, что вне её, наверное, ещё лучше. Вы-то, москалики, "Новый мир" читаете, когда хотите, а мне этот номер по знакомству на неделю приносили. (И там ещё хорошо -- почему в православии сохранилась икона, а на Западе "упразднилась, сменившись картиной"). (...)
А сердце всё ещё щемит. Родная, прости.
Твоя В.
Троица. 15 июня 97.
(...) получила удивительное, талантливое письмо из Боровска, закричала вслух -- художник! -- и спрятала, чтобы прочитать ещё раз.
Утро раннее, воробьи беседуют, ворона каркает, я письмо пишу. А твоё перечитываю.
Господи, ты написала обо мне другой, той, что незримая очами, без дури и косноязычия. После этих строчек надо воспарить, но если тургеневская (или вересаевская?) бабка говорила: "Душу-то, милок, нешто выплюнешь", то что о моей разбухшей плоти и обленившейся душе сказать?
Вот наступает последняя неделя моей работы. О безработице я нынче думать не буду. Успею, если не найду хомут на свою шею. (...) Я не верю в своё самостоятельное усилие (духа, плоти, души -- чего угодно!)
Вот так и будет во мне эта распущенность, неумение бороться с собой (...) Прости меня, когда молчу. (...) я готова плакать над строчкой о дожде, шелестящем в лопухах.
Я очень люблю тебя, Таня. (...)
21 июня 1997 г. Киев
(...) Что в будущем, я не знаю. Я не из будущего века, я даже не из настоящего, как и большинство людей моего поколения. Во мне нет желания обругать настоящее, хоть оно того и заслуживает, наверное. Вчера кто-то из режиссеров говорил, что в 50-м году люди помогали друг другу, а сейчас каждый живёт для себя.
Не люблю этого. Помогают люди -- вижу это в больнице, и иногда неожиданно открывается доброта в человеке, от которого не ждал её.
Милая моя, прости мне это письмо. Дорогая моя Таня, я буду писать тебе, а как и где мы встретимся летом? Поехать в Михайловское не смогу. Работы может вообще не быть. Но что-нибудь всё-таки будет -- только когда? (...)
Твоя В.М.
24 июля 1997 г. Киев
(...) Мой Бог, как у Петра Ильича, как у тебя, милостив. А вера моя -- это скорее состояние души, а от храма отказаться не могу, только вот мне не по себе от регулярности (должна быть раз в неделю -- нет, когда хочу, это нехорошо, наверное).
(...) Вера -- это слишком глубинное, об этом нельзя рассказывать, и сомнения у меня были, и неверие было, и в чём моя вера -- об этом не расскажешь, словами не выходит, не получается.
Родная моя, ты поедешь в Михайловское-Бугрово и, даст Бог, отдохнёшь там. У меня недели три после увольнения было какое-то странное состояние, одна знакомая сказала, что это называется -- расслабуха; сейчас надо появляться в роно и показывать трудовую книжку -- мол, не работаю нигде, давайте пособие, есть ещё хлопоты с субсидией (...).
Заяц, я так мечтала, всё время мечтала, чтоб ты рядом оказалась. Утро в июле -- каждое -- начинала с тебя. Утыкалась носом в твоё плечо, и ты утешала меня. И всё прощала. Такие светлые эти дни были, и мне казалось, что я в детство впадаю, нет, в юность, у меня бывало тогда состояние торжества жизни, какой-то радости, которая изнутри лезла при всех несчастливых и разбитых любовях.
Теперь фон другой; после стольких прожитых лет и стольких ушедших из жизни, наверное, уже просто не может быть возвращения чистого счастья. Но когда есть хотя бы минуты его, слава Богу.
Когда мы увидимся?
(...) Мне стыдно за всё, что у меня не получается, в чём виновата. Так определённо, как ты, словами сказать этого не могу. Прости меня.
(...) Родная, целую тебя и твои руки. В.
7 августа 1997 г. Киев
(...) А фильм "Доживём до понедельника" чистый и благородный, не понимаю (...) враждебность к нему. Понимаю, что трудно тебе было у Инны, да ещё с твоей незащищённостью. (Речь идёт о неприятии моими бывшими учителями романтичного фильма Ростоцкого.-Т.Н.-) Ты не отгораживаешься, не прячешь себя, вот и достаётся (...) О прозе писать не хочется, работы пока не обещают, какая-то слабая надежда есть; насчёт инвалидности меня успокоили: в сердце -- только возрастные изменения, суставчики такие -- у многих женщин моего возраста, так что работать можно и нужно.
(...) Привязалась к пастернаковскому "6 августа", как дохожу до "Прощай, лазурь преображенская", -- не могу, сначала самые настоящие рыдания набегали, потом немного успокоилась, а "образ мира, в слове явленный", -- не могу -- вздыхаю и восхищаюсь. До свидания, Таня. Если придёт письмо до 19 -- с праздником тебя, и прости меня. В.
7 августа 1997 г. Киев
Солнышко мое родное, спасибо за звонок, вот и погладила меня по голове; видно, очень я попросила. Спасибо, твой голос снял боль и дрожание внутри. Милая моя, как ты догадалась, что надо позвонить, что мне тоже нужно знать, что и просто нужна родному человеку (...)
29 ноября 1997 г. Киев
(...) Девочка, пусть даже никто, кроме меня, не называет тебя так, я ведь вижу тебя ту, что увидела в гостиничном номере, пусть 21 год прошёл; чем дальше, тем яснее мне те дни.
И поле, ты с цветами, и жасмин (...).
Родная, я не сошла с ума, но я после твоего отъезда вдруг утром иногда начинала прислушиваться: вдруг шаги. И ругала себя. Сентиментальная толстая кошка: не могу выбросить засохшие ветки из Александрии.
(Имеется в виду парк в Белой Церкви под Киевом -Т.Н.)
(...) Вздохнув, простилась с гимназией, дети славные, степенные, слушающие.
В новой школе дети обычные, привычные, всякие, интересные.
Есть один русский класс, где собрались два Ираклия (Бероев и Тутберидзе), Ашот, Шико, Давид, Тамара, Ани (все на -ян), сочетание славян и Востока -- совершенно очаровательно; а стать двух мальчишек-грузин! А активность армян, а гортанные звуки! И славные, на этом фоне спокойные, рыжеватые и светлоглазые русские-украинцы.
Прости, моя родная, прощаюсь с тобой; завтра (...) какие-нибудь дети придут, будем праздновать. (День рождения Веры.-Т.Н.)
Целую тебя, моя добрая, нежная подруженька, милая моя, милая Таня. Твоя В.
19 октября 1998 года. Киев
Родная моя (...) прочитала начало твоей открытки и заплакала. Никто так не прощает меня, как ты. И вижу всегда в минуты (часы, дни) раскаяния Казанский вокзал, тот вагон, где вдруг мы оказались вдвоём, ты меня вразумляешь, а потом так неожиданно жалеешь, когда я чувствую себя совсем виноватой. Девочка, прости меня.
А записки не было, потому что перетрясли весь пакет и отправили через таможню. Заяц мой родной, ты теперь иностранец.
(...) Вера.
ДВЕ ЗАПИСКИ ВЕРЫ. 11и 12 ноября 1998 г. Киев
Заяц родной!
Вернусь после 10.30 утра (вызвали на 2 первых, вместо 2-х последних уроков).
Целую.
Толстая глупая Кошка.
_________
Зайка любимый!
Ухожу до вечера. В морозилке, в жёлтом пакете, 2 плитки рыбы. Съешь, душенька. Поджарить не успела я.
Твоя кривоклювая, толсто...опая Утка.
Ноябрь 1998 г.
Дружочек мой, родная моя, я ещё не привыкла к твоему отсутствию. Вечером останавливаюсь у двери, чтобы понять, что голоса твоего сейчас не услышу. Родной сероглазый Заяц, ты избаловала меня в этот раз совсем, я до сих пор чувствую тепло этих дней и твоей заботы.
Малыш, прости меня за всё, в чём я не понимала тебя. Мне так хорошо вспоминать тебя (...) ангел мой.
В.
14 декабря 1998 г.
(...) долго не могла привыкнуть к твоему отсутствию, до сих пор щемит сердце, когда вспоминаю, как ты заботилась обо мне.
Суета "юбилейная" закружила малость -- готовила, покупала, праздновала, но!!! -- вела себя скромно. (...)
После твоего отъезда позвонил Петя23 и сказал: "Просто по голосу соскучился, ничего не случилось".
Вот и я по твоему голосу соскучилась. (...)
(...) Заяц, родной! Прости.
В.
(Бегемотиха толстопятая).
Киев. 26 декабря 1998 г.
(...) Дома -- обрывки писем к тебе, не отсылаю, начинаю и бросаю; я виновата, не ты, я себе всё время говорю: неинтересно, подумает то, скажет то -- глупо это: оценивать себя, но случилось так, что не могу быть непосредственной (...) во всю оставшуюся жизнь не смогу убедить тебя, что Татьяна для меня тот же милый идеал, что и для Александра Сергеевича, что это первая любовь, что я даже первый её графический портрет помню. А почему при этом могу и Анну любить, даже и оправдываться не стоит (...). Это не уменьшает моей любви к Татьяне, эта любовь с детства и навеки, как любовь к Пушкину, к "Капитанской дочке", к "Онегину" (...). (Речь об Анне Карениной =Т.Н.=)
Лет в 18 -- 20 мои умственные способности казались мне безграничными (прошу прощения). Я не интеллектуал -- жизнь это показала. Восхищаюсь
___
23 Актёр Пётр Миронов.
тонкостью и глубиной ума других, радуюсь и удивляюсь любой неожиданной и интересной мысли, но я проста при этом, и во мне нет той искры Божией, что зовётся талантом. Ты талантлива, по-настоящему ярко талантлива (я даже не о стихах говорю, а обо всей тебе) (...). Я то, что я есть, я виновата почти перед всеми, кого знаю; простит ли меня Бог за то, в чём я виновата перед тобой, не знаю; только последняя записка о том, как плохо тебе (и голодно!) -- это настоящая моя боль (...) Прости меня.
А за статью спасибо. Жаль, что сократили. (...) Насчёт "Василиска" -- характеристика блестящая (прилагательное "школьненький" -- очень впечатляет -- твой неологизм?) И есть в ней (статье) то благородство, которое выше пристрастий, злобы и суеты (хоть, конечно, досталось по заслугам псковско-московским мафиози).
(...)
(Речь о новой администрации Заповедника. =Т.Н.=)
Киев, конец января 1999 г.
(...) Первый раз я призвала себя на строгий суд 11-ти лет, когда уезжала из Клина. Тогда я поняла, что надо быть такой, как Наташа Чурочкина (живёт сейчас в Москве, на Малой Ордынке). Впрочем, об этом я рассказываю тебе не в первый раз.
С тех пор мне не хотелось "ставить двоек", а вся моя учительская жизнь -- это попытка привить любовь к тому, что я люблю больше всего на свете и в чём живу: это великий русский язык (прости, если звучит это выспренне).
Любовь наказаниями и двойками не прививается, и ставила я их? -- да почти нет, уж в каком-нибудь исключительном случае. (...)
(...) то боль твоя на меня изливается; посмотрела я на коробочку с чистотелом, там ты написала "чистотел!" -- этот восклицательный знак, вдруг замеченный, чуть меня до слёз не довёл (...). Ты права, когда пишешь, что нужно, чтоб было общее дело. Родная моя, моё дело кажется тебе скучным и не творческим.* Мне трудно возразить. Я, наверное, слишком долго работаю в школе. Устала. Но и без неё, без детей мне нехорошо. Мне нужно общение с ними. (Домыслы Малевой о моих мыслях! =Т.Н.=)
Ей-Богу, это не от вампирства.
Ведь мне и отдавать нужно. Именно отдавать. И обидно, когда не берут. И пытаюсь убедить себя: ну, не нужен ему, именно ему сейчас Гоголь, а самой обидно, ведь знаю, что нужен, что пройдёт он мимо того, что я люблю, какой же его жизнь будет? (Наивно, конечно, думать, что все должны любить то, что я люблю).
А ты меня, кстати, многому в общении с детьми научила (т.е. восприятию и оценке детей). (...) Родной Заяц,
получила нежное твоё письмо. Наверное, всё правда, что ты пишешь и на обороте афиши, и в нём. (...) Такие письма приводят меня в счастливое и, наверное, в глупо умилённое состояние, благодарю тебя за этот свет и это тепло (прости -- "я сказал тебе не те слова...") (...)
Киев. 6 февраля 1999 г.
(...) Насчёт того, что в родах поэзии мало, ничего не могу сказать и возражать не стану. Несут официанты с тихими и торжественными лицами диван, нянюшка зажигает княжовы венчальные свечи (это слово "княжовы" навсегда так со мной и осталось), Тихон молча смотрит на расстроенное лицо старого князя и уходит, дом освещён, тихо, и все притворяются незнающими; никто не говорил об этом, но во всех людях какая-то общая забота, смягчённость сердца и сознание чего-то Великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту.
Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал.
...Понимаю, что это значит для меня, и "Бог милостив" -- нянюшки и князя Андрея; понимаю (...). Никуда от этого не денешься.
Начала писать шутливое школьное сочинение о том, как рожал Лев Николаевич -- и не смогла, перечитала сцену родов Кити и разревелась, и моё размягчение мозгов началось с того, как она приложила руку Левина к своей груди, а потом к губам.
Зачем я пишу это так долго? Напрасно, конечно. Но ведь это тоже правда. И это то, что заветно-дорого мне (нет, конечно не только эти страницы). Я плачу, когда Кутузов молится -- Спасена Россия, Благодарю тебя, Господи! -- И трогает меня это (...)-- Кутузов как и все старые люди, мало сыпал по ночам -- ведь мог написать: спал. И никто б не осудил, а надо же -- сыпал (...). Потерпи дружочек, сейчас кончу). Ещё открыла наугад -- и вдруг:
-- Дядюшка пел так, как поёт народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне всё значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев так только для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был бессознательно хорош. --
В двух предложениях 5 напевов, а все эти что, как-то. этого-то. этот -- одно удовольствие -- пародии писать.
Всё, Ангел мой. Не мучу больше (...) Не брани меня, родная...
Твоя Слониха, Бегемотиха (...)
(...) Твоя В. И очень любящая тебя.
8 февраля.
P.S. Сегодня перечитала и подумала: не надо было это писать. И как ты взглянешь на это, и что ты скажешь. А ведь скажешь то, что подумаешь (...).
9 февраля 1999 г. Киев
(...)
Сероглазое Чудо моё,
благодарна Александру Сергеевичу ещё и за светлую псковскую ночь над его могилой.
Печальный месяц февраль. Милая моя, прибежище моё, сокровЕще!24
А как утешала ты меня в Пскове, моя родная сероглазая девочка.
И не говори, что ты другая, что не девочка, что слишком много наслоилось на то время и на жизнь нашу.
Грустно мне сейчас, выплакать, выкричать горе и вину свою хочется, а та музыка во мне всё звучит. И жива.
Когда ты ехала из Пскова, тебе слышался 3-ий концерт Рахманинова.
Во мне сейчас -- начало 2-го.
(Прости меня, бесслухую и безголосую).
Таня, Таня, скажи что-нибудь, утешь или посмейся надо мной, погладь по голове.
___
24 Вера воспроизводит слово, написанное мною впервые в четырёхлетнем вохрасте =Т.Н.=
До свидания, мой родной человек.
В.
_______
"Ионыч".
А.П. Чехов -- писатель удивительно чуткий...
(отрывок конспекта, найденный дома у Веры. 1999 (?) год).
Киев. 1 марта 1999 г.
Здравствуй, Дурашка Сероглазый
И не мечтай: не заткнётся Малева и не умолкнет. Хоть 4 её глупости пересчитай, хоть сотню -- она о себе ещё больше их знает. Вольно ж тебе на 18 страницах писать о 4-х; когда ты написала: "а 4-я твоя глупость...", то вдруг (я) поняла, что забыла, в чём же 2-ая и 3-я.
Заяц ты мой любимый,
была в субботу на детском празднике у Надежды, посмотрела на живых, артистичных детей, сидела и думала почему-то о тебе.
Для тебя я должна бы быть музыкальной. Так нет же!
Тоньше бы мне надо чувствовать поэзию. И тут не то!
Склонность к философствованию? Начисто отсутствует!
Родная моя, не шучу, понимаю, что тебе нелегко меня принять такой, как я есть. Как русский человек (да ещё и поэт) ты всё соотносишь с совершенством, я не прошу этого не делать и не прошу пощады, а просто тебе трудно со мной из-за этого.
А о стихах твоих (т.е. о моём отношении к ним) ты неправа.
Не говорю о них, потому что -- что я тебе -- профессионалу (прости неловкое слово) -- могу сказать? Я твой читатель, у меня к ним какое-то бережное чувство, перечитываю -- к некоторым отношение, как к живым: приласкать хочется, вдохнуть, есть слова любимые, сравнения, и впечатления помню (...)
А за Льва (Толстого. =Т.Н.=) я не агитирую. Просто написала, за что я (его) люблю. И то не всё. Но тоже понимаю: я тебе с ним надоела (...)
Прости, родной мой, трогательный мой человек, дружочек, сестрёнка.
(...)
В.
23 июня 1999 г. Киев
Родная моя,
услышала твой голос 6 июня -- и это было счастье. (В день рождения Пушкина. Т.Н.) И твоя открытка с отзывом Модестовой -- тоже прелесть (...). Заяц родной, я отсидела еще сеанс в "Чайке Ливингстоне".
Сначала два актёра, один из них слегка полысевший, изображали "Чайку...", потом весело, празднично выступала Лена -- руководитель, врачи говорили о детях (Любовь Ивановна и завлекла меня на это мероприятие, умеренно строгим голосом сказав: "Речь будет идти о здоровье детей, ведь дети Вас интересуют?") Было это тяжко (слушать о детях). А общий настрой -- бодрый: поучимся хлопать в ладоши, руки перед собой высоко, чаще, громче, в конце выбрасываем руки вперёд и кричим: "МЫ!"
Модестова мне понравилась: плавная походка, голову держит хорошо, Давыдову в "Снегурочке" напоминает. И говорила она хорошо, особенно мне понравилось одно её замечание хлопобудам-непрофессионалам.
Мы с ней вдруг расцеловались на прощание.
(Речь идёт о центре "Алоэ-ВЕРА", киевский форпост которого находился на улице Ветрова, о попытках обратиться к нетрадиционной медицине -- увы, непокарманных для нас обеих... =Т.Н.=)
Родная моя, в июле исполнится 23 года. Мой прекрасный, добрый, заботливый, прощающий меня дружочек, мой человек любимый, не сердись на меня, сероглазое моё чудо.
Увидимся.
Очень надеюсь. Целую родного Зайца.
Всегда помню.
В.
27 июня 1999 г. Киев
(...) Ведь я не только Небердяев (прелесть ты!), я ещё много чего не -- (одним словом, не творец, а временами воспроизводитель).
(...) Вижу тебя той, которую увидела 23 года тому назад. Ты в синем, глаза опущены, а когда поднимаешь -- в них тепло и свет. (...)
Счастливого пути тебе, моя родная. До встречи в аллее. Твоя В.
19 июля 99 г.
Заяц родной,
Перечитала. Смешное слово "воспроизводитель". Я потребитель.
Но это не так уж и важно.
Родная, уезжаю 22 утром.25
Поздно получила паспорт. Но уже есть: синий с трезубом и цветным "патретом". Скоро увидимся.
Будешь рада мне? (...)
Осень 1999 года: получено 30 ноября,
когда Верочке исполнился 61 год.
(...) твоё письмо о своих "домах" заставило меня вздохнуть о прошлом. А далеко -- давно где-то главный -- бабушкин дом (сгорел от неосторожности внуков, когда уже мы были в Киеве), трава -- узорчатая, овин, родник /ключик/, говорили: к л ю ч о к, бузина. Горница с маленьким окном, деревянные стены и потолок. И тётя Дуся рассказывает про нечистую силу, я почти верю, хотя и страшно, а потом она признаётся, что это неправда. Батюшка приходит с причтом, идёт по всей деревне -- святит воду -- и у нас в доме тоже, а потом все идут за деревню -- крестный ход, просьба о дожде.
Этот дом определил, наверное, мою (пусть сентиментальную, пусть какую угодно) любовь к России. Что там говорить -- и дом, и деревня, и Клин.
Проходит жизнь, недавно в Москве умер мой клинский одноклассник, самый умный в нашем 4-5 классе, вспомнила его, потому что когда-то в Селенском лесу собирали землянику в кринки, и где-то та жизнь, та деревня, папа везёт нас в санях в какой-то зимний праздник (...).
Написала: проходит жизнь, а ведь по-настоящему не хочу этого понимать. (...) Когда ты уехала, утром после передачи по НТВ мне стало страшно, что ты приедешь в Москву, переживающую взрыв. Про всё страшное, что ты писала, говорили.
Один очень высокий и некрасивый парень говорил, что он не верит в чудо, но у него там сёстры и мать, он их ждёт здесь, скажите им, что я их жду. Я всё время думала о тебе.
___
25 В Михайловское
Заяц, родной человек мой, прости. И тревожно, и страшно было за тебя (...). В.
Киев. 21 Февраля 2000 г.
(...) неужели ты всерьёз думаешь, что я могу уехать куда-нибудь в Америку, стандартную, самодовольную Америку? Моя родина, моя среда обитания, моя любовь, и запнулась -- сокровенная? Самая глубокая? Та, которую не вырвешь из сердца, с ней живёшь, с ней и умрёшь? -- русский язык.
Когда-то Наташа Колыбина сказала мне, что увидела во французах то, что рассказала ей я о них. Может быть, из вежливости сказала? Нет, родная, укоренилась я здесь; конечно, недели две я пожила бы в Швейцарии, в горах, без телефона, и печь чтоб была тёплой, а красное вино подогретым. Сбросить душевную усталость, не думать о грехах, потом ведь всё равно будешь тащить на себе их все.
Впрочем, и русская изба, чтоб забыться и заснуть, сгодится тоже. (...)
Октябрь 2000 г.
(...) По утрам просыпаюсь рано и говорю с тобой и объясняю, как много ты значишь для меня. Читаю тебя -- и вдруг натыкаюсь на строчку или целое стихотворение, не замеченное мной. И плакать хочется и просить прощения (...). Милая моя, родная Таня, никто так бескорыстно и неизвестно за что не любит меня, как ты. И не сердись на меня: если не пишу, то всё равно помню и люблю.
Поверишь: пишу это и плачу. Этот листок отошлю, потому что не могу больше думать, представлять себе, какой кажусь тебе.
Спасибо за 30 сентября. Твой голос, когда он бывает таким, -- это счастливое состояние на весь день.
(...) В.
Прости, мой дружочек, прости меня. (...) Обломов я, бобыль и глупец. (...)
11 ноября 2000 г. Киев. 5 ч. 25 мин.
(...) мне так иногда хочется завопить: я кажусь вам спокойной (многим такой кажусь), а это неправда, но ведь меня эти люди не знают, как знаешь ты. Милая моя Таня, ничего не хочу доказывать; легкомысленна так легкомысленна, только не всегда легки мои слёзы, и столько печали осело на дно души, что только наедине с собой иногда покричишь (...).
* * *
... В твою комнату после отъезда захожу не сразу. Как будто не хочу видеть и знать, что тебя в ней уже нет... (...)
Октябрь 2001. Киев
...Сегодня наткнулась по TV на передачу 1999 года о том, как музей Булгакова готовится к пушкинскому юбилею. Говорила Кира Питоева (фактический создатель музея) и её муж -- художник Даниил Лидер. Ему -- 80, он немец, переживший лагерь, очень сдержанный человек; они рассказывали о замысле спектакля в музее, и я подумала, что бы ты сказала: общее дело.
Он неожиданно сказал: гений творит легко, ведь он пребывает в сдвинутом состоянии... (...)
25 октября 2001 г.
(...) О событиях страшных писать не буду. Когда увидела в телесюжете Хоттаба, который по-русски рассказывает чеченцам-боевикам, как убивать русских, мне стало жутко, а всё это -- и Нью-Йорк, и Чечня, и взрывы в Москве -- показалось какой-то одной страшной войной Востока с Западом, и неужели новый век этим ознаменуется? (...) и всё страшно и кажется неразрешимым, и фанатики страшны, и бомбометатели тоже. Прости, обещала не писать о страшном (...).
Целую. Вера.
15 ноября 2001, Киев
...Как хорошо помнишься ты: поёшь "Был у Христа-младенца сад", сердишься на меня из-за плохонького нашего проигрывателя, рассказываешь (ученикам Веры. - Т.Н.) о IV и о Трио.
(Чайковского; 4-я симфония; Трио памяти Николая Рубинштейна. - Т.Н.). Не только голос, жесты помню...
15 ноября 2001 г. (в том же конверте)
Выхожу в 6 утра. Когда становится светло, видна ещё совсем зелёная трава и оставшиеся кое-где листья на деревьях. А ивы не облетели, посмотрела на одну весёлую, жёлто-зелёную, сказала вдруг тебе -- родная девочка -- вслух. (...) Родная моя, что там у тебя, думаю о тебе, читаю. Ушло пока 10 книг, постепенно разойдутся все. (Сборники мои "Подземка" и "Девочка Жизнь". - Т.Н.) (...) Вчера в консерватории был Рахманинов. Сначала прелюдии, потом романсы. Романсы пел украинец с раздольным голосом, а в прошлом у меня Лисициан и Архипова. С моими медвежьими ушами только романсы и слушать.
Ночь печальна, как мечты мои...
Господи, не ропщу, но почему я люблю музыку без взаимности? (...)
1 февраля 2002 г. Киев
(...) спасибо за письмо, за тепло в голосе и за моё тоже осознание себя в счастливом детстве рядом с тобой.
(...) Заяц, родной мой, истории твоих попутчиков просятся в роман или в кинороман, что, может быть, ещё лучше, потому что кто теперь читает? Твои ученики. (Не только. Но я об очень широких массах. Все "кина смотрют", как сказал мой ученик Валера Галушка.) Целую Зайца. В.
21 февраля 2002 г. Киев
Родная моя (...), я получила три письма, таких добрых, таких лечащих душу (а душу посетила мерехлюндия -- не 18-летнее переживание страха смерти, а всё-таки переживание -- каково этому небу и земле без меня будет). Милая моя, родная моя, спасибо тебе. Как будто вернула ты мне что-то такое детское и незамутнённое (прости, какое-то не то слово вдруг выписалось); милая, прости меня. Трудно мне сказать, что для меня были эти письма, только вылезла я из напавшей вдруг на душу печали. Может быть, не совсем, но это уже по другому поводу.
* * *
Солнышко моё, написала это дней 10 тому назад. Прости меня. Думаю о тебе всегда и с нежностью.
Родной мой заботливый дружочек.
27.02.
(...) Получила открытку с Антоном Павловичем. Странно как совпало: я взялась за день до получения письма его перечитывать. Взяла сначала "не лучшего его" -- 1-й том, где уже чувствуется он будущий, но ещё есть сырое и несильное, где он как будто стыдится своего целомудренного и поэтического будущего. (...) Для меня он остался тем, что был в воспоминаниях Авиловой. А Книппершу я как-то не очень люблю, хоть, наверное, это влияние Бунина.
Да, родная моя, ты очень мило удивилась в одном из писем, как я могу любить Льва-зануду-морализатора (ты не так написала, я сокращаю). Я не люблю "Крейцеровой сонаты", "Отца Сергия", даже "Семейного счастья" не люблю. Не люблю всего, где явно и голо просматривается тенденция.
О Заяц!
Но не могу разлюбить человека, написавшего "Войну и мир" (...).
Когда вспоминаю Смоктуновского, который согласен был отказаться от вечного и всемирного Гамлета ради Пьера, когда думаю, что Федю Протасова тоже сыграл не он, до того обидно (хоть сыграли достойные актёры).
Но это уже я отвлеклась от темы. Ничего, простишь меня, дружочек.
Любящий тебя
простожитель.
(Термин В.Л. Леви. =Т.Н.=)
15 сентября 2002 г. Киев
Здравствуй, моя родная!
Ты попрощалась со мной, через некоторое время я взглянула на большие вокзальные часы -- без 10 восемь, ты уже в электричке; потом, через час, из окна вагона увидела мокрую платформу и начала успокаивать себя: ты уже дома. И не могла и не могу забыть твоих слез.
Прости меня.
Милая моя, дружочек мой, мне достались добрые дни в августе -- дни в твоём саду. Господи, ведь я нелепая (и много чего ещё могу сказать о себе); за что мне досталась такая самоотверженная дружба, не знаю (...).
В.
18 сентября 2002 г. Киев
(...) получила твоё письмо, поэтическое "письмо вдогонку". Опять вспомнила лето и яблони и радость тишины в душе. А державинскую цитату я
переврала.
(...) Звучит это так:
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайняя степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества.
А дальше: "Я телом в прахе истлеваю" и т.д.
Ты вздохнула о славянизмах, ушедших с Державиным (не все, слава Богу, ушли), а что-то в этой грусти есть. Но я посмотрела сейчас в него (углубиться не могу, просто посмотрела), такой он русский, на одной странице -- ум и сердце человечье были гением моим -- вне себя я Бога пел -- и: смел я правду брякнуть вслух.
Это "брякнуть" меня умилило.
Родной мой человек, спасибо тебе за стихи, книги и сад.
Не могу я чувствовать поэзию так глубоко и тонко, как ты (уже не говорю о профессионализме твоем), но Бог и поэзия простят меня: люблю!
Заяц мой, пишу, а на душе тревога: звонила к тебе и не дозвонилась. Но очень надеюсь, что дождь пройдёт, что смог уйдёт (...).
Целую родные глаза. В.
17 июня 2003 г. Киев
Здравствуй, моя родная,
смотрю "Барышню-крестьянку" и радуюсь.
А ты моя радость и печаль.
Вот сейчас Берестов начинает учить Лизавету Григорьевну грамоте: "Это буква аз, говорится -- а". Господи, неужели когда-то не будет "Капитанской дочки" и Лизаветы Муромской. Нет, родной мой, сероглазый мой дружочек, будем жить! Родная, родная.
(Русские помещики Куравлёв и Лановой пьют на посошок.)
Будем здоровы, мой сероглазый ангел. Целую нежно. В.
Тогда же второе письмо
Родная моя, дружочек мой, помню тебя всё время.
Вот и всё. Ты разрешила писать совсем коротко.
А на нас опять нахлынула жара; с горя читаю Тынянова, понимаю, что талантливый, но не мой. Т.е. не совсем мой. Не сердись. Я нелепая и бессвязная, но очень тебя люблю.
15 декабря 2003 г. Киев
(...) Попросили в школе провести уроки по зарубежной литературе ("Война и мир"). Дети не читают, несколько человек прочитали по хрестоматии в украинском переводе. Класс слабый, слушают очень внимательно. И то хорошо.
Рыдать над этим уже не могу. Очень слабая надежда на очень отдалённое будущее, когда не пьесы о Толстом будут ставить бездарные, а читать начнут нашу великую русскую литературу.
Жаль только, жить в эту пору прекрасную мне не придётся.
Вообще, итоги подводить ещё не хочется, но мысли временами лезут о конечности земного бытия. Но не буду об этом. (...) очень тепло и нежно о тебе думаю, стараюсь прогонять тревожные мысли, как будто от них тебе труднее будет (такое чувство у меня).
Слушала стихи Рубцова в Доме актёра и видела тебя (ты мне его открыла).
Прости, моя родная. Целую тебя нежно.
Вера.
Конец декабря - начало января.
(Новый 2004 год) Открытка.
(Печать на открытке: "Издательство "Мальва")
Дружочек сероглазый,
с днём рожденья, с Рождеством Христовым!
Прости за бедность слов и мыслей, но я тоже люблю тебя -- и ту девочку, увиденную с книжкой Рубцова, и нынешнюю мою добрую, любящую и временами строгую подругу. Спасибо тебе за заботу обо мне и за то чувство, что я в мире не одна, что ты дала мне. Очень многого желаю тебе, пусть люди и мир добром откликаются на твоё пребывание в нём. И будь здорова. Вера М.
24 января 2004. Киев
...ты как будто сейчас та удивительная сероглазая девочка:
-- Не горюйте, Вера!
Родная, не сердись, наверное, это уже мои 65 л. вспоминают (так не хочется называть старостью свой, увы, уже почтенный возраст), но так хорошо, чисто и нежно на душе, и сердце сжимается... У нас нынче снег и лёд, а всё же зима хорошая... (...)
Да, ещё из новостей культуры.
По TV недавно передали вечер поющего, пляшущего и временами прыгающего зайчиком нашего (т.е. вашего) министра культуры (Швыдкого. - Т.Н.) и деятелей вашей -- нашей культуры. Никитины пели об утках. Гадко, отвратительно: сытые, самодовольные утка и селезень -- издевались над голодными соотечественниками. Интеллигенты за столами им подпевали и смеялись. (...)
Сытый голодного не разумеет -- это понятно, но сытый издевается над голодным -- не по-русски, да и просто не по-человечески это. Пережила я это тяжко, хоть ты и говорила мне об этой песне...
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Киев, 14 марта 2004
Здравствуй, моя родная.
(...) прости меня, я как-то сжалась сейчас и не могу ответить на твоё удивительное, милое и поэтическое последнее письмо.
Благодарна тебе за него. Как будто опять пережила поездку в 76-ом в Псков и возвращение по одинокой дороге (неправильно, да? -- лучше -- по пустынной?, -- но нет, она казалась одинокой), а потом так хорошо Москва вспомнилась... И киевский Царский сад, и даже вокзал. Какой ты была неожиданной, и как всегда, провожая тебя, не могла уйти сразу, бродила, смотрела книги, долго не отходила тоска и страх потери.
Не сердись на меня за написанное.
Не обращай внимания на повторы.
Я очень люблю тебя, Таня.
А лет мне отроду 65, почти 66. А жить осталось -- не знаю сколько. (...)
О конце своём думаю чаще, чем хотелось бы, но не в том смысле, как помру, а в том, что дышать хочется, шагать -- хоть и моими нелепыми ногами; к какой-нибудь там берёзе-осине-липе щекой прижаться.
А ещё есть книги -- образ мира, в слове явленный.
И люди, которых люблю, -- i мертвi, i ненародженi.
И есть ты -- любимый и любящий человек.
Есть пожелание, которого не произнесу (...)
Просто я очень люблю Вас, Таня!
До свидания.
Вера.
Больше мой друг Верочка не слала мне писем.
Но мы виделись -- в Киеве; ещё полтора года она жила. И мы вместе встретили православную Пасху в 2005-ом. Она звонила мне. В последний раз -- за неделю до конца...
В публикации, по возможности, сохранена орфография и графика строчек писем Веры. Разрядка и курсив -- составителя. =Т.Н.=
Татьяна Никологорская
СТИХИ и ПРОЗА

Татьяна Никологорская, 1975 год
На об.шмуца
НАПЕВАЛА МНЕ МАМА...
на об.шмуца!
Сон о детстве. Якиманка. Мой двор. (Перед Пасхой 1984 года дом N50 был снесён...)
х х х
Какая буря зацепила
Меня обветренным крылом?
Бежала я что было силы -
И дождь врывался в теплый дом.
Он в нем хозяйничал так мокро,
Он всю террасу затопил,
Он за день высветлил все стекла
И лампу чахлую залил...
А я бежала по дубравам,
Сквозь перелески, сосняки,
И оставалась где-то справа
Плотина шумная реки...
Лес пролистал гряду июлей.
Летя, как будто на коне,
Я так хотела слиться с бурей -
Ей всё откликнулось во мне!
...В листву холодную зарылась
Костра ребячьего зола.
Я, наконец, остановилась.
Я ничего не догнала.
Мне только кровь в виски стучится,
И руки словно бы в золе.
Как будто пролетела птица -
И стало тихо на земле.
Но слушай, буря, слушай: если
Ты снова вспомнишь край земной, -
Мои покинутые песни, -
О, прозвучите надо мной!
Середина 70-ых (из сборника "Серебряный бор")
х х х
Ощущение полёта над собой.
Ощущение полёта над судьбой.
Над насилием.
Над страхом.
Над бедой.
Над бесцельной маетой и суетой.
Над неверием в призвание своё.
Над потерями, упреками, нытьем,
Увереньями, что ты - лишь инфантил,
Трагифарсом всех разменянных квартир.
Катастрофами.
Разломами костей.
Годовыми невиданьями гостей.
Приближением к застенку и петле...
К невозможности дыханья в пустоте...
Ощущение полёта. Вопреки!
Над излучиной родной Москвы-реки,
Униженьем сволотой и нищетой,
Уравниловкой, святою простотой,
Ожиданием пожара и войны,
Вытиранием из памяти - страны...
Ощущение полета. Все равно!
Все погибло; друг предаст и недруг,
Но -
Вот тогда ты и воскресни как поэт!
Потому что нет пути
И смысла нет -
Кроме детства,
Кроме песни,
Кроме слов,
Кроме вечного спасения основ...
12 мая 2003, с. Новоспасское Смоленской области
х х х
- Птица зовёт...
Окликает...
- Пустое!
Это - весна, где надежды - не в счёт.
Гнездышко вьёт
И детишек покоит.
- Нет. Ошибаешься:
Птица зовёт!
- Некуда звать.
Колесом календарик
Снова прикатит в заснеженный лес.
Лыжи намажет
И ёлку подарит.
После воскликнет, что кто-то воскрес...
Жизнь, как Фемида,
Слепа, инстинктивна,
И человечий конечен полёт...
- Знаю, что это во многом наивно!
Всё-таки верится:
Птица зовет...
24 марта 2004
х х х
В коробке зала золочёной
Былая музыка звучала.
В коробке зала золочёной
Потоки струнные лились.
А я себя не понимала,
Внимая им неувлечённо,
Как будто ласточки из жизни
С дождями вместе унеслись.
Литавры бились исступлённо
И медь небесная гремела,
Литавры бились исступлённо,
Как чьё-то сердце - наразрыв.
А я все это потеряла.
Но я себя припоминала,
Как бы другого человека
Жизневместительный порыв.
Моя душа - без крыл и пола -
Под эту музыку летала.
Моя душа - без крыл и пола -
Под эту музыку цвела.
И в небесах я обитала,
Когда я в доме танцевала,
Под эти громы вальсовала,
Когда была совсем одна.
Глухие серенькие стены,
Как занавеска, разверзались.
В окно закатное летела
Душа, навстречу Ничему.
А там - простор, а там - свобода
Ей откровеньем открывались!
Да нет: ей дали отдавались,
Непостижимые уму...
И разноцветный шар заката
Тащил в иную жизнь куда-то,
Где нет профессий, нет болезней
И даже пища не нужна...
Я полагала: это - детство.
Но детством трудно обогреться.
Что в голове моей вертелось -
Моя родная смерть была.
Сидит калека в струнном зале.
Маэстро палочкою машет.
Лежит Чайковский в невской глине,
Немой, оглохший, неживой.
А где-то, в тапочке хрустальной,
Девчонка и поёт, и пляшет.
Да нет, - глядите! - полетела,
Как самолётик над Москвой...
Её учили верить в Завтра.
Но Завтра будит лишь Неправда.
Её учили верить в честность,
И вдохновение, и труд...
Глумится город равнодушный.
Наивных книг уже не нужно.
В нужде, безвестье и собесе
Мои романтики умрут.
Но где ж вы, подвиги, событья
И все великие открытья,
Неподражаемые гости
И настоящие друзья?!
Часы сигналят: "Поздно... Поздно..."
Но жизнь и Смерть сцепились грозно.
Свою тюрьму, свою обиду
Сейчас, сейчас сломаю я...
14 декабря 2001
х х х
Я - не писатель.
Я - свидетель.
Я - в Апокалипсис глядетель.
Язык безмолвных праотцов.
Я - не борец.
Не сочинитель.
Я - ваш бесплатный обвинитель.
И ваш защитник от борцов.
Нет: не фантазией прекрасной,
Не грустной истиной ужасной -
Самой собой жива Душа,
Пока она поёт, рисует
И о неведомом тоскует,
Неизъяснимо хороша!
Но эти рабские заботы -
Предтеча мата и блевоты,
Подобье дыбы и тюрьмы.
Неужто мы на то родимся,
Что мы стихи писать годимся,
Но не нужны России мы?!
Капкан нужды,
Капкан болезни,
Цветенье буржуазной плесени,
Издёвки быдла над творцом.
Судьба заброшена. Забыта.
Изломана. В поддых избита.
Талант оплёван продавцом.
Мысль, как собака, издыхает.
Уже ничто не привлекает -
Кто б день покоя изобрёл!
Но разве цель пути - в покое?
Придумай кто-нибудь такое -
Чтоб за руку меня увёл
Из мрачной муки, как ребёнка...
Куда? В родимую сторонку
Былых надежд,
Былых невежд,
Плывущей над садами песни...
Мечта о Музыке, - воскресни!
Перевали земной рубеж!
Творец - подросток.
Слышишь? Слушай:
Твои последние игрушки
С тобой уходят в долгий путь.
Они добры. Они смеются.
Они уродству не сдаются.
Их надо с честью помянуть.
Здесь - и себя уже не жалко...
Базара бранную считалку
Неужто станем повторять?
Не эти книги нас учили.
Не в эти сети мы спешили.
Их не устанем разрывать.
Здесь беспрестанно унижали
Твои заветные скрижали,
А ты в себе не виноват!
Мир просто глуп.
Но кто ты, милый?
.. .Лишь сад колеблется унылый
Да вещи старые лежат...
5 июля 2001 Востряково /Солнцево/, с/т "Мичуринец"
х х х
Вечность мне темна
и непонятна.
Я мгновенье знаю
и пою.
Не к лицу родимые мне пятна:
Мне скитанье - дом,
Я путь люблю!
Но не космос-хаос обнимаю,
Не бессмертье магов и жрецов:
Отрочество запечатлеваю,
Дорогое юности лицо.
Пошумите вы, леса земные,
Дождики грибные, проливные...
22 февраля 1997 -- 6 октября 2006
х х х
Филологу Л.К.Швецовой
Как дерево - наивною листвой,
Так человек оденется надеждой,
Вновь подчиняя воле голос свой,
Не покоряя вещего - невежде.
Как дерево, обронит он листву.
И будет в даль холодную глядеться...
Что силы даст осилить пустоту?
Одно: реанимированье детства.
23 сентября -- 7 мая 2006
Огород
Заглохший сад.
Костры кипрея.
И тишина - невмоготу...
Здесь мама с дочкою стареют.
Иль не стареют, а растут?
...В огонь летят куски тетрадок,
Он разгорается с трудом...
И странен, и до боли сладок
Мой утлый, влажный, дачный дом.
Причал садового участка.
Пять соток счастья глупышей.
С тобой - чур, чур! - не повстречаться,
Антиэстетика вещей:
Гнилые, хлипкие порожки,
Комод - прабабушке привет,
Бомжиха - кошка на дорожке,
Что хнычет: пустишь или нет?
Но здесь мы тоже прорастали.
Боялись атомной войны...
Взахлёб впервые записали
Стихами отрочества сны...
Легенды жалкого семейства...
И, Голсуорси не читав,
Мы всё же верили всё детство,
Что жили в лучшей из держав.
...Здесь были прятки-хоронюшки
И обливанья -- от жары.
И, на перине и подушке,
Нырянья в книжные миры...
Трансцендентальных состояний
Озноб. (Лишь в детстве - тот астрал!)
Неосторожность излияний...
(Нельзя - родным! Кто б это знал...)
Малина. Мамино варенье.
Цветных стекляшек волшебство...
И первого стихотворенья
Ожог и слезы. Торжество!
Здесь первый пойман был карасик.
Освоен папочкин "Прогресс".
Но... Жаль Муму. Неправ Герасим.
Его хозяйка -- ведьма, бес!
Купанье; салки и считалки...
Поэмы "Кеннеди"... "Хрущёв"...
И кукурузу было жалко:
Ну, не росла никак, и всё!
Я предсказала президенту
Его трагический конец,
Не помышляя ни момента:
Готовлю тёрн ему в венец
......................................
Летела в небе Терешкова.
Гордилась подвигом семья...
И потешалась позже школа
Поэмой Танькиного Дня...
Я рисовала нос де Голля -
От смеха даже бок болел...
И пело ласковое поле,
И весь посёлок тихо пел.
Пел трезвый, пел и чуть подвыпив,
Пел, поминая древний чин...
Куда-то сволочь волокли ведь
Однажды четверо мужчин!
...Отец и мама вечерами
Своё затянут в унисон -
И над халупами - сиянье,
И "Восемнадцать лет" - как сон...
А керосин горит в коптилке...
Закат... И, вроде, дождь прошёл...
Нет, - не было у нас бутылки,
Но как же было хорошо!
Тургенев, Чехов и Есенин,
Твардовский, Лермонтов, Шукшин...
И - Пушкин, темногубый гений!
Вот - мир. В 12 с небольшим...
............................................
Простонародные соседи,
Зелёный мир садовых куп -
Всё обращалось вдохновеньем,
Витавшим возле юных губ.
Затем он стал мне ненавистен.
Презренной кличкой "огород"
Я заклеймила эти листья,
Забор, крыжовник и компот...
Как странно, зыбко, вполовину
Вернулся призрачный мирок!
Я навсегда его покину.
Его не жалко - видит Бог!
Здесь дождь давно течёт сквозь крышу.
И кошке мне не объяснить,
Что обветшала эта ниша,
Что мне зверька - не приютить...
Уедут женщины. А дети
Гнездо иное обретут,
Когда, в каникульном рассвете,
Они внезапно подрастут.
И прекратятся "хоронюшки",
Садовый их, дощатый рай,
Картишки, мамины подружки...
Общенья радость через край!
Здесь можно жить - светло и шумно,
Велосипедами звеня,
Банально, глупо или умно,
Но только... только без меня.
Я ухожу. Нельзя здесь ныне.
Здесь только призраки живут.
А наши детские святыни
Умчались, верно, на Луну,
Где и теперь живет Никита,
И сеет-веет свой маис,
И где техасец миловидный
Играет песенки на "бис"...
Да, я всё слышу, как нетленно
Средь наших яблонек звучат,
Неостывающей Вселенной,
Шаги погодков... и внучат...
И не пришёл ещё Лопахин,
Не грохнул Трощенко топор, -
Где мой отец в простой рубахе
Не водрузил ещё забор.
.. .Закат угас - не гаснет песня,
И топот ног, и детский визг
Воскресшей жизни -
Дружной, тесной...
Промчавшейся, как птичий писк.
10 февраля 2002 - 25 марта 2005 - 26 апреля 2006 г.
Москва - Солнцево (Востряково) -- Москва
х х х
О лучших днях,
Дарованных нам жизнью,
Не забывай
В печальной полумгле,
Когда сдаётся:
Облетели числа
Длиной твоих скитаний на Земле...
Когда ничто не греет, не спасает,
И впереди - тоска и Крестный путь, -
Не позабудь о непорочном рае,
О Детстве до конца - не позабудь!
Ошибка, что оно от нас уходит:
Оно уходит в нас,
Так тихий Спас,
Какой-нибудь из памятных мелодий,
Бессмертным выраженьем добрых глаз...
И Музыка, на клавишах и крыльях,
К тебе слетит, обнимет горячо,
Спасая от насилья и бессилья, -
Как упасала в юности ещё...
27 сентября 2002 --10 декабря 2004
х х х
Опять слетается народ
На музыкальный мёд.
И время будто не идёт,
Но всё-таки идёт.
Меня опять влечёт судьба
К стекляшкам этих люстр,
В аншлагу, зал мой...
без тебя
Мне воздух жизни пуст!
Намоленный оркестром свод
В грядущее плывёт.
Но где там крест мой? Имя? Г од? -
Никто не разберёт...
А я любила этот пыл
Заоблачной судьбы.
Он праздником бесспорным был -
Его вкусили мы.
Наш ныне праздник разорён.
Но память так свежа,
Как вен разрезанных
бульон,
Что капает - с ножа...
Нет сил терпеть.
Нет сил дышать.
Нет силы утром жить.
Опять скорбеть,
Опять вставать,
Едою дорожить.
Жить на пределе скудных лет,
За гранью бытия...
И всё же ты - бесспорный свет,
Консерватория!
Тобою я себя креплю,
Тобой учусь любви,
О вдохновении молю,
Когда я - на мели.
Читальный зал и телеграф,
Почтамт, аптека, суд -
К твоим подмосткам, где орган,
Извечно приведут!
И я под бронзовой рукой
Свой доживаю век,
Где даже памятник порой
Вздохнёт, как человек...
16 ноября 2003, на концерте памяти Олега Кагана, -
7 мая 2006
х х х
Снег и сумерки из детства.
Дворник шаркает лопатой.
Наступает предвкушенье
Лапок ёлочки мохнатой.
Наступает, наступает
Месяц маленькой надежды!
В наступающем желаем
Не того, что было прежде...
Покупаем сто открыток,
А кому их слать - не знаем...
У разбитого корыта
Снова ёлку обряжаем.
Даже если в ней - полметра,
Подливаем ей водичку.
И на ветки нацепляем
Мишку, зайчика и птичку,
Крошечный бумажный веер,
Гуттаперчевый грибочек...
Антресолей эпопею,
Что вернуться к жизни хочет!
Вот и сладко. Вот и славно.
Будто кто-то за спиною
Говорит тепло и плавно:
"Клей картоночки со мною!
Это - кубик. Это - домик.
Видишь? Новая игрушка!"
Помню мулине цветное:
Мамой вышита подушка...
Над Отрадным - фейерверки.
Завтра я уеду в Киев...
И не плохо мне, поверьте:
Несчастливее - другие.
Я вернусь через неделю -
Разорить нет силы ёлку.
В День Татьяны утешает
Та же ёлка втихомолку.
И церковный блеск игрушек
Ночью лампу отражает.
Утром, солнечно и грустно,
Ёлка в город провожает...
18 ноября 2003 -18 февраля 2004 - 7 мая 2006
Зимняя песенка
/именины/
...Снег выпал только в январе...
А. С. Пушкин
... А двадцать пятого -
он как повалит, снег!
И рассмеялся слабый человек:
Цела и ёлочка,
Придут друзья,
Накроем стол -
без праздника нельзя...
Снег на Татьяну? -
Будет урожай.
Метель, щедрее город обряжай!
Так воздух чист,
Когда летит снежок.
Так взгляд лучист,
Когда звонит - дружок ...
/А за окном ворона пятый год
Своё гнездо от вора бережёт.
И снег ей люб. И ей тепло в гнезде.
Берёза - что? Берёзы есть везде.../
И церковка сквозь рощицу видна.
"Динь-динь! Татьяна!" - говорит она.
Я форточку открою, чтоб слышней
Трезвонил ты, звонарь судьбы моей.
Ещё мы в круг любимцев соберём
И под гитару что-нибудь споём.
Ещё не все осипли голоса.
Дай молодости мне на два часа!
Овсень, овсень, дай птицам пирога!..
Синицы скоро огласят луга.
И Фебруарий свой прикатит Феб.
А после - будет сладок Пасхи хлеб.
...И снег идёт, весны слышнее звень.
И не кончается Татьянин день.
27 января - 25 марта 2005
х х х
Пришёл февраль.
И больше ничего.
Спасибо, сердце Детства моего!
Тебя разнарядила я давно
И, поздней ночью, выкину в окно.
Ты прянешь в темень, как парашютист,
И сядешь в снег, как запоздалый лист.
Иголками не буду я сорить,
Тебя мусоропроводу дарить.
Всё занесёт февральский снегопад!
Он бушевать перед весною рад.
Он ёлочку укроет пеленой.
Останутся иголочки со мной.
А завтра - солнце, бич моим глазам.
И от него спастись уже нельзя...
Куда зовёт лазурный небосвод?
Куда бежать? Назад, а не вперёд...
Туда, где все блокноты, все долги,
Где скоро будет не видать ни зги,
Г де всё, чем я дышала и дышу,
О чём скажу,
Чего - не расскажу...
Пилоты чертят в небесах опять
Какой-то шифр. Его не распознать.
Быть может, это школьник, что мелок
О доску крошит, торопя звонок?
Растают эти белые стихи.
Душа! Хотя бы крохи сбереги!
Сама - хоть улетай, хоть пропадай, -
Но выручай свой заповедный край...
Спасибо, ёлка! Пустота в груди...
Как хорошо, что Пасха впереди!
2 февраля - 18 февраля 2004 - 7 мая 2006
Мне снятся комнаты...
Мне снятся комнаты,
которых больше нет,
Они живут в моём воображенье,
И коридор - катай велосипед! -
Тех золотистых комнат продолженье.
Повремени же открывать свой фронт, -
Разменщик, террорист, евроремонт...
Здесь всё прошло - и всё ещё пройдет,
И почему-то бесконечно длится.
Я вижу жизни каждый долгий год,
Я слышу речь и вглядываюсь в лица.
Стрекочет "Зингер" (бабушка жива).
В окно видать село (снесут, одначе).
"А богатырь-то спит!" - отца слова.
И это братик мой?!
(Ребенок плачет).
Вот пробежала хлопотливо мать...
На кухне - диспут. /Все соседи в сборе/.
Вот брат полез за сахаром опять -
Он диатезник, луковое горе...
Мать битый час о прошлом говорит.
Но вставить слово? Мне? - Помилуй, Боже!
Так интересно: в ней актриса спит.
А все-таки обидно: как же?.. Что же?..
Мелодии загадочный цветок
В моем сознанье часто расцветает.
Приёмничек трофейный - вот исток
Свободы, что ребенку - не хватает!
Тревожат песни, будто прежде мы
Уже когда-то жили, пели, были,
Прошли пути войны и целины,
Но только отчего-то всё забыли...
И - шок, обрыв: ведь все... Ведь я умру!
Как можно, люди, говорить муру?!
Я старше и мудрее становлюсь
От ливня книг в моей библиотеке.
И с лирикой уже не расстаюсь.
Мне Сетон-Томпсон увлажняет веки.
Зов пионерских песен лечит горе.
Но... кто покойник следующий вскоре?!
Мне муха-мысль покоя не даёт,
А сердце все про "чибиса" поёт,
Про небо, лес и вечную денницу,
И пришвинскую чистую страницу.
А скоро Чехов к девочке придёт,
И "Мартин Иден" лондоновский глянет,
Рахманиновский колокол вздохнёт -
И Аввакума истиною грянет.
Что здесь прошло? - Ничто здесь не прошло,
А только детство, отрочество, зрелость...
Здесь существо стихами изошло,
Здесь так мечталось, верилось и пелось!
Здесь Кеннеди... Убийство - как обвал...
С любовью первой - отрочества мета.
Задачек философских тяжких шквал.
Останкино.. .Усадеб идеал...
ВДНХ - Америки примета!
Здесь были мы студентами - затем,
Чтоб в школу снова, на спектакль, вернуться.
Мы возвращались, в общем-то к себе.
Хотелось долго спать и не проснуться...
О, "Мартин Иден" ! Друг один заснул...
Он красный видел свет, он слышал гул...
Пластинки запылённые молчат.
Тогда они мне ласку заменяли.
И каждая - события печать,
До трещинки родное изначалье!
Симфонии. Вас больше не верну.
Я, как душе, вам, честным, благодарна.
Вы подарили жизни цель одну -
Её не объяснить мне и подавно...
А дети жмутся стайкой к старикам.
Расти нам неохота, дуракам.
Картинки репродукций, "Огоньки",
Четыре-три диковинных поездки,
Да фильмы, что от жизни далеки, -
Я благодарна вам всем сердцем детским!
От рака два родителя ушли.
Живьём в котле двора мой брат сварился
Но сказку ты в архивы запиши:
Иван мой - не воскрес, не обновился...
Страшнее смерти - ржавчина в зрачках,
Эрозия души былых мальчишек,
Манкурт вампирства в сытых старичках.
Войны легенды - и теплей, и ближе!
Отца пижама в сумраке висит...
Нас в этом мире слишком часто били,
Не замечая, что свеча - горит...
Любили слепо нас?
Иль не любили?
Здесь жизнь погибла?
Нет. Я не про то...
Я - о сентябрьской утренней одышке,
Когда, прикрыв меня полой пальто,
Мать торопила:
школа...
сумка...
книжки...
Сентябрьский прилепился к сердцу лист.
Трубит вдали недетский мой горнист.
"Щелкунчик" время ёлок означал,
И созиданьем полнилось начало,
И ни одна душа не прокричала,
Что на пустырь похож родной причал.
Что проку в долгой юности моей?
Кому какая польза? Нет и славы.
Я неземных видала ширь полей,
Связуя времена...
Все дети - правы.
26 апреля 2004 Москва - 8 октября 2005 Киев
Детский альбом
"...И, засыпая, он чувствовал себя так хорошо, так бесконечно хорошо, как давно себя не чувствовал..."
"...единственное существо на свете, научившее волка любви"
/Э.Сетон-Томпсон. Рассказы о животных/
Я не могу себе простить:
Я Зайца предала.
Игрушку не сумев помыть,
Земле не предала...
И не отправила в музей
Дошкольную любовь,
Г де нет и не было друзей -
Лишь мифы вновь и вновь.
Но этот миф меня спасал,
Со мною день и ночь.
Не бил меня и не кусал,
Всегда готов помочь.
Ушастый, словно Горбунок,
Находка для детей,
Одет, как сельский паренёк,
Вот только без лаптей.
Как рукавицу, на ладонь
Его я натяну,
И он - щекою только тронь -
Жалел меня одну.
Он был военный. Командир.
Он был вооружён.
Он строил Справедливый Мир,
Где каждый зверь прощён.
На самолёте он летал
(В коробке обувной)
И с Буратино побеждал
Фашистов, как герой.
Охотник, лыжник под ружьём -
Его был лютый враг.
Но был Чапай его вождём
/Ну, с логикой - никак!/
В альбомах детских длился фильм:
Собачек оседлав,
Как психи, зайчики неслись:
Урра! Пиф-паф! Бах-бах!
Ты что наделал, дед Мазай,
С моею головой?
Скорей из лодки вылезай,
Пока ещё живой...
Отец мой в ужас приходил
От сонма этих морд,
Как будто был там крокодил,
Сожравший город-торт.
Смотрела я, похолодев,
Не смея бунтовать,
Как драл отец, шипя сквозь гнев,
Тетрадь, ещё тетрадь...
Его священник воспитал.
Боялся он ... рогов.
А сердца детского не знал,
И плохо знал богов.
Я всё пыталась рисовать,
Смотря на двойника,
И даже письма (в снег) совать
Для доброго зверька...
Большая, дылдочка уже,
Нуждалась я в друзьях,
Не зная, что друзья - в душе,
Их здесь найти нельзя...
Однажды я пришла домой
(Лети, портфель, под стул!), -
А под ногами - мой герой
Уже навек уснул.
...Негодной тряпкой он лежал,
От детства почернел.
И взглядом будто умолял:
Спаси! Я заболел!
...Я ужаснулась: это - он?!
Я школьница была.
И куклу - в угол, под диван!
/Мотнулась голова/.
И ветошь байковых ушей,
Не розовых давно,
Исчезла в завали вещей,
Как Анкино кино.
... А может, вправду где-то жил
Мой Заяц-Бибобо?
И от беды меня хранил
Игрушечный мой Бог,
Как Сетон-Томпсон, мой поэт,
Концовки чьих поэм,
От зверушачьих, Божьих лет,
Меня забрали в плен...
26 декабря 2004 - 2 мая 2006
х х х
Мои деревенские предки
Убили б меня за стихи.
А после бы плакали: "Детка!
Стихи твои были сладки!"
Мои, не писавшие писем,
Неграмотные, как трава, -
Рожали, пахали, косили,
Стирали, кололи дрова...
Спасибо им за интонацию,
За гены всех наших родных,
За нашу несчастную нацию,
За лучший на свете язык...
Вы рано, как яблоки, падали
В могилки Рязани, Москвы...
И бабы по-детски так плакали,
Пугаясь: помрём ведь и мы...
Веселые, нежные, грубые,
Белёсые и смуглецы...
Как нагло над Шурами-Любами
Хозяйничали подлецы.
Сестрёнки мои безответные!
Мой детский запущенный сад...
Виктимность - от бабки, наверное.
Романтик была, говорят.
Вот так!
Не сложила ни строчечки,
А тоже мечтатель душой...
Кроила да шила сорочечки,
Кормила домашней лапшой.
Поэт не имеет наследников
/Мне Блок неподкупный знаком/.
Но вырвалась я из передников.
И стала я их языком.
16 марта 2004 -- 25 марта 2005 -- 25 апреля 2006
Ипподром
/Памяти Манежа/
".. .хотя тут нечего слушать..."
/В.И.Даль/
Мастер Слухов, -
Сгорели твои слуховые!
Детство Пушкина помнящие, как живые.
Тонко дерево, червем источено, тлело.
Президентская ночка угрозой горела.
И, победный, горел пост-кутузовский год,
Осенивший Манеж гулко-скучащий тот.
Ещё будут убиты невинные люди.
Столько судеб сгорит...
Ещё это ли будет?
И кому объяснить /слуха коль не дано/,
Что мне жалко тебя, слуховое окно!
А напротив - отныне чужую читалку.
"Старый-новый" и старенький наш МГУ.
И студентку, себя, молодую нахалку,
И своё на экзамене: "Ни бум-бум! У-у-уу!.."
...Как студент шёл на сессию, обликом сер.
Как назад возвращался под Первый концерт!
/Хоть медаль на меня ты сегодня повесь -
Не доходит уже та победная песнь.../
...Всё - вдоль окон. Единственных, памятных окон,
Открывавшихся в небо далёко-далёко...
Разбивался о рамы
Копыт резонанс.
Напевала мне мама
Старинный романс.
Лился звук молоком
В длинном детстве моём.
Наблюдала я сказку облаков
Над Кремлём...
И над крышей зелёной, и над слуховыми
Мчались мысли метафорами неземными!
Сколько прожито рядом и дружб, и историй.
Сколько смеха и слёз - в шуме аудиторий...
Для меня оживал Девятнадцатый век,
И в пальтишке-футляре шагал человек...
Жалко улицу Чехова! Герцена - жаль,
Будто так и не найденный нами Грааль...
Чем закончен журфак, я не знаю пока -
Дом в Клину я окончила наверняка!
Фильм Таланкина я невзначай услыхала -
И другою судьба с той поры моя стала.
И так рядом ДК наш. И наш БЗК *...
Эти Конкурсы-всплески...
О, эти восторги!
Вэна Клайберна тень достаёт до галёрки.
Даже в страшный, чернобыльский, памятный год
Навсегда светлый праздник -
Поиск праздника тот.
А затем - и грозы, и бессмертия гром...
И Москва под дождями -
наш искренний дом...
Сачкодромы вы наши! Психодромы родные...
Даль, - ты вдаль не глядел, ты неправ!
То ли барды поют, то ль весны часовые...
Тянет к музыке шею журфака жираф.
___
* Большой зал Консерватории
Абсолютного слуха
Своего не развив,
Потеряла я музыку,
И достался мне - миф.
Родниковой такой,
Благородной такой
Я не буду уже,
Дождик мой городской.
Дай черпнуть чистоты.
Оплесни мне окно.
Слуховое оно.
До конца.
Всё равно.
16 марта 2004 - 25 марта 2005 -- 25 апреля 2006
Станция "Театральная"
Ничто сполна не повторяется...
Ты был в беспечности горазд.
Нам наше счастье доверяется
Сверх сил и мер, но только раз.
Всё мимолетней наши радости
И всё значимей потому,
Что год сверкнувший - удаляется,
И повторенья нет ему.
Судьба ли сердце исковеркала?
Казался замкнут жизни круг.
Но это лето пионерское
Мне всю меня вернуло вдруг.
Каким-то там руководителем
Я в клубе временно была.
И для детей, и для родителей
Спектаклей пять изобрела.
Хотите верить, не хотите ли -
Я жизнь в то лето обрела.
Покинув гнусную редакцию,
Как затяжной кошмарный сон,
Концерт я услыхала клавишный,
Запевший с лесом в унисон.
Мне лето в лагере запомнится,
Как ячменя усы, рыжи,
И как июньская бессонница,
И как июльские стрижи.
Как банный запах полдня жаркого,
Лугов распаренных настой,
Река холодная и сладкая,
Поэма просеки лесной,
Где золотого зверобоя
Лицо прекрасное рябое.
Нет! Как сельцо с куриным запахом
Мне до него рукой подать,
Там, видя две ветлы лохматые,
От счастья хочется рыдать...
Как благодарность августовская,
Недели, что легли, легки,
Как старый томик Паустовского
И эти, новые, стихи...
Я ожидала книжку первую.
Зубрила "Повесть о лесах",
Прополоскавшись всеми нервами
В тучковских тучных небесах.
Я убегала на свидание
С ручьем коровьим по утрам.
Вокруг меня хранил предания
Еловый бор, зелёный храм.
У жизни вкус лесного яблока...
Я научилась понимать
Всё, что давно, как песня зяблика,
Умело память волновать.
Порой баян звучал в деревне,
То Борька - клубный гармонист -
Так выкомаривал затейно
Под перепляс и пересвист.
Нежданно праздник всем подарен,
Частушки, дроби выводя;
И кто-то - "Таня!" - из тумана
Звал, как родную дочь, меня...
Какие сумерки в России,
Когда кругом - луга в цвету!
Какие люди дорогие,
Когда не петь - невмоготу...
А может, детство наше лучшее
Еще прожить нам надлежит?
Оно вдали, оно за кручами
И неопознано, лежит...
И в тридцать лет, как лет в четырнадцать,
Душа свободна и дика.
И даже юность и бесхитростность
В ней не утрачены пока,
Но лишь придушены слегка...
Ещё один секрет откроется:
В то лето с белою бессонницей,
С закатом над лесной грядой,
Ждала я: лёд разлуки тронется
И будем вместе мы с тобой...
Весь месяц. Месяц! Боже мой...
Но тщетно: ум повинный клонится.
Не равнодушие виной:
Мой друг, с бедою, как сумой,
Не мог расстаться. Но, без сил,
Зарницей счастья
Мне светил...
Октябрь 1984 -- июнь 2006
х х х
Что в моей шкатулке?
Очень мало.
Память, как я вещи в школу собирала.
Вот пенал, вот новый рыженький портфель ...
Братик плачет -
Это значит:
Не мешай, сестрёнка - главная теперь ...
Простор коммуналки.
Летом - сирый сад ...
Но гремит по радио Гагарина парад!
На земле и в небе - радость больше нас.
/Вроде Дня Победы
Во второй раз/.
А ещё - наследье книг.
Неспособность к драке.
Телевизор КВН. Человек во фраке.
Ой, куда-то он летит? Машет руками ...
Но летим и мы за ним - куда, не знаем сами.
Старшие классы.
Первых чувств ложь,
Из которых шубу вовек не сошьёшь.
Но, что ты наделал, театрика вертеп?!
Дал ты мне опиум и отнял - хлеб ...
Отразилась эта милость
В горстке выросших подростков -
Ученических и мученических судеб.
Что осталось?
Память вёсен.
Отвращенье к освоению ремёсел.
Все неявленные свету дневники.
И чужие, и свои - стихи, стихи ...
Рюкзак путешествий - не серебра.
... А всё же Россия была к нам добра.
Хоть увял рисования тонкий колос
И не востребован пением голос.
Я не карьеру успехом считала:
Я не за тем с дирижёром летала.
Люди да судьбы - богатство и честь.
Что же? Казните: я - то, что я есть.
Вот правда о религии моей
В стране, где всё смутнее и темней.
Что остаётся в итоге? - Слово.
Крест за него я нести готова.
21 февраля - 26 июня 2003 г.
х х х
Лето погулять на волю вышло.
Мне минул 14-ый год.
Пароходик "Михаил Пришвин"
Нас по Волге на себе несёт.
Плюхают марктвеновские плицы.
На корме угрелась стрекоза...
Рядышком - улыбчивые лица,
Молодые мамины глаза.
Спорим мы с ровесником до хрипа -
Об искусстве, громоздим миры.
Гладит песня "Вековая липа"
Наши полудетские вихры.
Тётя Ира из каюты вышла,
Сына с дочкой ужинать зовёт...
Пароходик "Михаил Пришвин"
По воде, как посуху, идёт.
В городе чужом не потеряемся:
Волгари чуть что - поводыри!
Живописью наспех объедаемся -
И опять дебаты до зари...
Волжские причалы отплывают...
По музеям бегать устаём...
Балагану чаек хлеб кидаем -
С братиком, в ковбоечках вдвоём.
Мир надёжен: ведь жива Уланова!
Ярославля светят купола...
Далеко до ужасов Ульяновска,
И ещё "Булгария" цела.
Не убит ещё никто, не взорван.
Родина едина - навека.
Весело сидит морская форма
На плечах мальчишки - речника!
Хорошо, что мы т а к м а л о з н а е м,
А мечтаем каждый о своём.
В фильмах потрясающих витаем,
Песни негритянские поём:
"Олл оф Миссисипи, нигру, ю, хэв сиин..."
............................................................
Власти бюрократов - не боимся, -
Власти добрых книг - не предадим.
Славною Победою гордимся,
Верим, что и снова победим.
Впереди - порубанные вишни,
А пока - 65-й год.
Пароходик "Михаил Пришвин"
Дорог, как Гагарина полёт!
26-27 сентября, 2011 года
Москва - Свиблово
х х х
Уплывают годы,
Будто пароходы.
С берега им машет
Молодая мать...
Я не верю времени -
Верю звону стремени,
И на электричке -
Ну годы догонять!
Волны поседели.
Люди поредели.
Устарел немного юности кумир...
Я лечу в Звенигород.
Вижу тот же пригород.
...Мама машет с горки
Яхте " Миру - мир"...
19 апреля 2012 - 29 октября 2012
х х х
Маме и Якиманке
Шоссе
Гирляндой новогодней
Жёлто-малиновых огней
Бежит из прошлого в с е г о д н я,
Из т о й зимы - в ту тьму зимних дней.
Нет, - не из юности:
Из детства,
Где шубка пляшет на снегу...
Цигейка согревает сердце.
Я маму жду.
Я жду в пургу
Невиданных и г р у ш е к короб -
Вон, вьётся очередь в окне!
И нипочём декабрьский холод:
Светло, смешно, счастли?во мне!
На Серпуховке, Якиманке,
Близ Третьяковки по ледку
Летят ребяческие санки,
Куёт мороз Москву-реку.
Ах, будет ёлка, что церковка,
На подоконнике блистать
В своей серебряной обновке,
Когда домой вернётся мать!
И - рядом - с грустными глазами,
Папье-машевый дед Мороз,
В тулупе, будто из Рязани,
С мешком и в валенках, курнос...
И почему-то радость брызнет,
Быт скудной кухни озарив.
И - ничего о с м ы с л е жизни!
И - жизнестоек только м и ф...
/26 декабря 2012/
х х х
Спокойный свет
И летняя листва.
Пустой гамак. Медлительное время.
Ни смысла, ни труда, ни торжества.
И горя нет, и я забыта всеми.
И всеми буду я сбережена...
Дощатый дом. Высокие деревья.
... С бидоном чья-то бабушка прошла
Под говорок пленительный деревни...
Колодец гулкий.
Вкусная вода.
Седое одуванчиков сиянье.
И смерти нет, и мама -- навсегда.
И не пойму я: с о н? В о с п о м и н а н ь е ?..
...Гул самолёта -- сладко-далеко.
Загадочность разрушенных поместий...
Душе, как вешней бабочке, легко.
О г р о м н ы й д е н ь .
Мы все покуда -- вместе.
24 сентября 2011.
Москва, Свиблово
КНИГА ЮНОСТИ
на об.шмуца!!!
Таня. Студенческие годы. (Автор рисунка неизвестен)
х х х
Колотится сознание моё
О ледяные стенки мирозданья.
Гостиница. Хорошее житьё!
Дух праздности. И запах увяданья.
Случайные собратья на пути, -
Дороже вас не знаю, не имею!
Как только силы кончатся идти,
Я вашей добротою пламенею.
Гостиница вселенская тесна...
Дорога - горя сладкого основа.
Я позабуду, как цветёт сосна,
Но не забуду ласковое слово...
А разве сосны могут расцветать?
Храни их цвет, учебная тетрадь.
...Ещё тепло колеблется в груди,
Но замело сердечные заметы,
И не любовь, а музыка любви
Меня ведёт по северному свету.
1976 год (Из книги "Серебряный бор")
х х х
"Все люди - братья", - ты сказала,
И полегчало на душе.
Той дружбы не было начала,
Но было радостно уже.
Беспечно кудри отряхнула -
И Божий мир похорошел,
Как будто я на миг уснула,
Устав от долгих, страшных дел.
Спала с открытыми глазами,
И ночь была белым-бела.
А серый Псков грустил над нами
И задевал колокола.
Река несла меня куда-то?
Иль мне казалось, что лечу?
Тот миг растаял без возврата.
"Все люди - братья," - я шепчу
1981
(Из книги "Есть музыка")
х х х
Первых осеней и вёсен
Был мой мир высок от сосен.
Собирали мы пожитки.
Папа пел мне у калитки:
"Мы поедем спозаранку
На родную Якиманку,
Мы поедем скоро, скоро
Из Серебряного бора".
Вот с тех пор, беды не ведая,
Вдруг чуть, что - туда и еду я.
И, когда совсем устану,
Приговаривать я стану:
"Мы поедем спозаранку
На родную Якиманку..."
На родную - где родные,
Где живая - и живые.
Добрые мои собратья
Вырастали невозвратно.
Я сама средь новоселий
Помню песню, как потерю,
Что отец мне пел в ту пору
У Серебряного бора.
И, быть может, в час печальный
Соберусь я в путь недальний
В поздней жизни - ближе к месту,
Где моё осталось детство.
Мы поедем спозаранку
На родную Якиманку.
Мы поедем скоро, скоро
Из Серебряного бора.
Из книги "Серебряный бор"
Начало 70-ых, редакция 2000-ых годов
За подснежниками
Нет, я пишу не о цветах.
Я - о захваченности сердца,
Когда капелью дом пропах
И трудно вдосталь наглядеться.
Нет, я пишу не о весне -
О незамеченной идее.
Когда Москва пахнёт - к листве, -
Я и сама не знаю, где я ...
Нет, я пишу не о любви!
Я говорю о чём-то лучшем,
Когда дороги завели
В чудесный бор земли дремучей.
Нет, не природу я люблю,
А этот шум смешной и смежный.
Я гром любой переборю,
Чтобы услышать звон подснежный.
Начало 70-ых
х х х
Я не поверю в перемену,
Когда мне скажут: "Всё прошло".
Я куртку старую надену -
Мне в ней легко и хорошо.
И, спотыкаясь на бескочье,
И, горячася на снегу,
Я прокричу вам эти строчки
Сквозь мглу и через не могу.
А кто-то где-то поумнеет
И позабудет про родство.
Лишь мальчуган опять поверит:
Земля людей. Звезда отцов.
Начало 70-ых
х х х
Я выхожу на улицу, которой,
Быть может, нету больше. Снесена -
Но дух столетний ясностью особой
Меня приветствует. В том не моя вина.
...Особняки, сугробы, книг изданья
И колокольни длинная свеча ...
Москва ушла в приметы и преданья,
Своих жестоких ран не залеча
И не изжив свою неповторимость.
Я замедляю шаг. Я не спешу.
Я так боюсь, что в скуке суетливой
Последнее на свете прогляжу.
Слетает снег, доверчивый и сладкий,
Как будто кто-то просит: "Улыбнись!" -
И щёлкает ... Декабрь. Играют "Святки".
В чужом окне - неначатая жизнь.
1973 г.
х х х
Смысл жизни возвращается однажды, -
Как молодость, утоленье жажды,
И возникает внове птичий гром
Над вётлами, над ясностью березы -
Весенним легкомыслием, курьёзом,
Когда уж в это верится с трудом.
Я знаю, что не в этом суть моя,
И на одной из граней бытия
Всё стало трагедийнее и строже,
Чем оттепель чудесная. Но, Боже, -
Без этих вёсен - я была б не я.
Начало 70-ых
х х х
- Ты куда уходишь по весенним кручам,
серебристым тучам
- В край, где лучше ...
- Мы причиной стали всей твоей печали
и твоей опале ?
- Ты поймёшь едва ли ...
- Что тебя так манит, если не съестные
правды прописные?
- Колеи лесные.
- Что ж таиться может в том лесу речистом,
в перелеске мглистом?
- Там так чисто ...
Погляжу на лужи с дождевой водою -
стану сам собою.
Лес - хранитель жизни, и её частицей
Он меня коснётся, как лучами - солнце.
- Для чего уходишь ты туда, где спицы
леса кружевницы,
Где щебечут птицы?
- Слову учиться ...
Середина 70-ых
х х х
Вернись ко мне, начало жизни.
Вернись ко мне, - не детство, нет, -
А тот, как день весенний длинный,
Неповторимо щедрый свет.
Я не могу дышать в полсилы!
Мне серый день - как чёрный дым.
Мне новизна необходима,
Как счастью вальс необходим.
Середина 70-ых. Из сборника "Серебряный бор"
х х х
Меня корит душа меньшая:
"Уже ты выросла большая,
Не научившись ничему.
Ты столького себя лишила!
Ты целый мир закрыть спешила -
Назло себе? Назло кому?"
Я закрывала целый мир.
Я открываю целый мир.
Я отворяю вам ворота
Таинственного огорода,
И - я боюсь в вину вменять -
Меня вам снова не понять.
Там зреет мята и роса,
Там золотистый воздух снится,
Там на меня поющей птицы
Глядят тревожные глаза.
Вам не пожать его плодов!
В нем только запахи и звуки.
Вам не найти во всей округе
Таких чарующих ладов.
Баян, согретый тёплым летом,
Обсыпан яблоневым цветом,
В тени завещанной молчит.
Но как я мчусь к нему, босая,
Как я дела свои бросаю,
Когда нежданно он звучит ...
Середина 70-ых
Венок
Томительно бессмертие твоё, -
Желанное и доброе до боли.
Всяк вновь сюда не раз, не два придёт,
Чтоб ощутить. Чтоб встретиться с тобою.
Здесь пахнут лето, жизнь и старина,
Прошедшее в вершинах затаилось,
И музыки не рушит тишина,
И дверь совсем недавно затворилась.
Знаком дотла! Но солнца нить звенит,
И воздух жить без музыки не может.
В венке по саду отрок пробежит -
Моложе их,
моложе нас,
моложе...
1973 г.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ.
Мне приснилось безлюдье и дальний Шопен.
Непокорные звуки. Играл Слободяник.
Запыленная лепка глядела со стен,
Барельеф Рубинштейна был сдержан и странен.
Старых нот и застойности дикая связь
И неясной потери мученье слепое,
Золочёной доски непонятная вязь -
Имена, имена ... Как над вечным покоем.
Там учебные классы. И там - голоса.
Но вхожу - никого. Окликаю - молчанье.
И стою. И шагнуть не могу с полчаса.
Лишь подошв одиноких глухое звучанье.
Чей-то взгляд неотрывно глядит на меня.
За высоким окном муть морозная бродит,
Неотвязностью сна кисти рук леденя ...
Для чего я пришла? Ведь сюда не приходят.
В полушкольной тени нахожу клавесин.
Прикасаюсь к нему - поднимается крышка.
Не играть не могу - и играть нету сил.
Словно жуть Ленинграда мне дышит с одышкой.
Если завтра война... Этот сон неспроста.
Возвращается, словно глаза оркестрантов,
Их голодный укор.
Если завтра Москва ...
"Баю-баю, баю?", - бормотанье курантов.
Мне не жалко себя. Жизнь и смерть - всё война.
Но, когда уцелею с живыми глазами,
Вдруг увижу: пустыня. Над нею - стена
С барельефом и лирой.
И страшно мне станет.
(Из книги "Серебряный бор")
х х х
Дмитрию Шостаковичу
О, нет: он там не одинок!
Он только слышит, слышит, слышит
Последний тоненький звонок
Под нишей и над самой крышей.
Он забытья не выбирал,
Познав всю тяжесть благородства.
Он равнодушие стирал
Своей ладонью, как уродство, -
И отпечаталась рука
На измождённом Ленинграде,
На облаках и на веках,
Зажатых нотною тетрадью.
И в репродукторе моём
Опять смятение бушует:
Зачем живём? Куда плывём?
Как душу вырастить большую?
Спасибо, тихий человек...
Осиротелый храм нетленен.
Был человек - как ранний снег.
Он знал, что мир несовершенен.
Снег стаял. Музыка плыла.
Зал наполнялся трудной болью.
...А где-то Ладога звала
И первой и святой любовью.
1975 г. Из книги "Серебряный бор"
х х х
Ранний вечер. Ранен вечер.
Просыпаются стихи.
Души треплет тёплый ветер,
Словно листики ольхи.
Скука города большого
За дверями торжества,
Там, где музыка без слова
В сень души моей вошла.
И шаги мои окрепнут,
И Москва меня кружит...
Чьим таким самогореньем
Древний город дорожит?
В нём живут еще Полянки,
Песня улиц хороша,
Кадаши поют тальянкой,
Третьяковкою дыша.
В вечном дворике мальчонка
С доброй белой головой
Чью-то гладит собачонку,
Как товарищ старый мой.
Подойду - и станем вместе
За Москва - реку смотреть.
Хорошо бы так на месяц,
Лишь на месяц умереть.
1972 г., редакция 2000-х годов.
П И Т Е Р
Мой Ленинград в плаще крылатом
Сквозь дрёму лирой прозвенел, -
И в град седой, голубоватый,
Где пар у рта заиндевел,
Я, эту бытность покидая,
Вхожу с распахнутой душой.
Во мне Москва моя большая
И этот Питер небольшой.
Ушли в пургу огни, вагоны.
У стыка рельсов, на краю,
Заворожённо, потрясённо
Я, словно памятник, стою.
Начало 70-ых
ЯНВАРЬ
Над городом детства -
звонки перемены,
И звон напряжённый,
и телеантенны,
Над городом детства -
Татьянины дни,
Как будто в России -
Татьяны одни.
Но где КВНа слепое окошко
И в полуподвал заглянувшая кошка,
Пластинки негибкой разбитый фокстрот
В то Новый, счастливейший, ёлочный год?
Где радость каких-то венчальных прелюдий,
Что просто - от пули не падают люди,
За школой - церквуха,
За стенкой - смычок
И пятидесятых годов пиджачок?
... Давно он растаял, январь волоокий,
Как призрак покоя далёкий-далёкий.
Но снежный туман той забытой поры
Напомнят мне белые эти дворы.
Поверишь: напомнят вдруг луг наводнённый
И пыл неистраченный, необеднённый,
И к музыке тягу, и нотобоязнь,
И этого шага несмелого казнь ...
Из сборника "Серебряный бор"
х х х
Как быть? - Нелепость. Позднее рожденье.
Обречены заранее на смех
Твои попытки видеть подтвержденье
Тому, что стало притчею для всех
И потеряло значимость и целость.
И умирает, стиснута в виске,
Твоя любовь единственная, смелость,
Как в первый раз: оркестра ждать в тоске.
А ты иди! В счастливый путь покуда.
Давай тебе свой тёплый плащ отдам?
И не гляди на них.
Не бойся чуда!
Нам не привыкнуть к жизни никогда ...
Середина 70-ых
х х х
А наша молодость порой
От прожитого не зависит...
Я поступаю в класс. Второй.
В начало. В продолженье жизни.
Я открываю снова дверь,
Хранящую тепло заката.
Я разгляжу за ней теперь,
Что не заметила когда-то.
Острей, чем раньше, я вдвойне
По-детски видеть научилась
В пришедшей этой тишине.
Как хорошо, что так случилось!
И не боюсь я отдыхать
От усложнённостей. Я знаю,
Что то пора - приобретать.
Что ничего я не теряю.
... Апрель. Молочные снега.
Мне дорога тех строчек горстка.
У неуклюжего подростка.
Озябла в варежке рука.
О неизвестности своей
Ни капли не подозревая,
Так каждый день он прозревает.
Светла сюита этих дней!
Смешной, задумчивый, обычный -
Стоит с полуоткрытым ртом,
Чтоб на поляне земляничной
Свалиться замертво потом.
Середина 70-ых
I. х х х
Памяти Володи Полетаева
Не огорчайся, Бог с тобою:
Хотя б в стихах остаться! Но
Другим, обиженным судьбою,
И этой доли не дано.
Прими ж, как мужество, сознанье,
Что только тень твоя пройдёт
По снам неведомых созданий -
И не растает в свой черёд.
Иных бессмертий мы не знаем.
Мы станем немы и глухи,
Когда другие прочитают
Дрожание твоей руки.
Я в это - верю.
Но порою
Творится странное во мне,
И время чудится второе
В ночной весенней глубине...
Мне кажется, что много позже
Я сам воскресну поутру
И резкий воздух осторожно
Своими лёгкими вберу.
И выйду в сад, где веселится
Холодный дождь, дудя в дуду ...
И детства моего столицу
Увижу будто бы в бреду.
Середина 70-ых
II. ДИАЛОГ
- А если умереть?
Ну, просто, без агоний?
Страдание стереть,
Как пот, сухой ладонью,
Всё выпить: облака
И родников водицу -
И задремать слегка,
На миг освободиться.
На час. На волосок
От полного блаженства.
Навек. Утратив вздох
За шаг до совершенства.
- К чему печальный труд?
Мужайся в круговерти:
Тебя ведь не поймут
И после этой смерти.
70-ые годы
х х х
Застыл в резьбе набатный зов.
Других не надо городов,
И мне чужда широкая река.
Когда я устаю - пою.
Я слышу всюду грусть твою,
Твою ладонь, Москва моя, Москва.
Моя любимая свирель
Попала в клетку для зверей.
Но я давно задумала побег.
Как жаль, что мне с собой не взять
И от столба не отвязать,
Друзья мои, - вас всех, вас всех, вас всех .
А я хочу сильней всего:
Спасти хотя бы одного
Или троих, озябших от тоски.
Чтоб рощи впереди цвели
И отступали от земли
Со всех сторон - пески, пески, пески ...
Войди с поклоном в дом любой,
И люди примут на постой.
Но лишь разлуки - светлый мой венец.
Иду по лесу над бугром,
И слышу - окликает гром
Из-под небес. Отец, отец, отец!...
И вновь весна - любовь и смерть,
И снова встать и песню петь,
И петь стихи, и пить еловый сок ...
Как я люблю твои поля
И всю сумбурность бытия,
Земля моя, в бессчётности тревог!
Начало 70-ых
х х х
Расскажи мне в утро вечности святой,
Что под вечер будет с вечной красотой?
Или, не тревожа
Мировых тревог,
Расскажи, как гложет
Голод тайных строк.
Как не перестанут
Листья увядать.
Как не престанут
Мыслить и страдать.
Облучённый физик в тишине лесной
В забытьи, с улыбкой, бредит под сосной,
И просторный, мокрый подмосковный сад
У просторных окон пахнет невпопад
Расскажи на третьем мира рубеже,
Что тебе известно о моей душе?
Середина 70-ых. Из книги "Серебряный бор"
х х х
Чуть сеял снег на сон берёзы,
Подлесок весело темнел,
Был речкин бег, - как смех сквозь слёзы.
Февраль снегами тихо тлел.
И, берегами пробегая,
Какая тёплая земля,
Я ощущала, вмиг глотая
Синицын звон из хрусталя.
Хрусталь позванивал на сердце,
Как отрицание часов,
Сосульки ломкое кокетство
Меня бодрило краше слов.
О, не заботьтесь о здоровье! -
Оно вернулось мне сполна,
Едва почуяла всей кровью
Я вкус весеннего вина,
И над агуканьем столичным,
Над кромкой леса - где подзол -
Светло и недипломатично
Синел и таял горизонт.
Как будто бабка разложила
На воле чистое бельё -
Так пахнет мир опрятно:
Мылом, руками добрыми её ...
Середина 70-ых. Из книги "Серебряный бор"
ВЕЧЕР
Сколько раз я встречала закат
В вышине своего окна, -
Столько взгляд был свеченью рад
На полу и возле стола.
Словно этот пресладкий час
В неба песельной глубине
Сотворяя в последний раз,
Целиком преходя ко мне.
И торжественный свод царил
Над московскою суетой,
И невидимый хор парил,
Точно в воздухе разлитой ...
Закипал во мне чистый вкус,
Вид созданья за сердце брал.
Приходил и ко мне Иисус,
И по имени тихо звал.
........................................
Сколько б сил не ушло и слёз,
Сколько б веры не потерять,
Будет тот же в природе спрос,
Будут так же закаты звать.
......................................
Он не пуст, сокровенный час,
Отрицания всех забот!
Я живу им в который раз.
Днём же - пыли невпроворот.
Днём - незряча моя душа,
И предчувствие ум гнетёт.
Мысль вечерняя хороша,
Словно ласточек легкий лёт.
1974 г.
х х х
Консерватория - приют.
Так в переводе.
У итальянцев так зовут
Её в народе.
О, удивительный народ!
Ты знал, великий:
Необходимо для сирот
Служить музыке.
Середина 70-ых
Г О Д 1958
Мне говорят: зима и счастье.
А я ресницы опущу -
И вижу город белой масти
И школу: нежно, сквозь прищур.
Я слышу: с книгами соседство;
Июнь, оставлены дела...
А вижу комнату, где детство
Я безмятежно провела.
Мне говорят: весна. Слиянье
Души с лесами и волной.
... А вижу: Клиберн за роялем,
И слышу грохот верховой.
Тот грохот носится над крышей,
Пронзая рамы и трубя,
И мы его то близко слышим, -
То забываем, как себя ...
Середина 70-ых. Из книги "Серебряный бор"
х х х
Первое вдохновение,
Первые слёзы во рту,
Первое стихотворение,
Нацарапанное на шкафу -
Ночью, в жару, в лихорадке.
Строчек дрожащая вязь.
Привкус пьянящий и сладкий -
Слов обретённая связь
Запах газетной бумаги
Ранит, как будто духи.
В неимоверной отваге
В окна рванулись стихи,
В шлюзы, в разбитые двери,
Вихрем заполнили свет...
Губы мои побелели
Ровно тринадцати лет.
Благословенное детство,
Будто прозревшее враз!
Тайный себе, заповедный,
Страстно-суровый наказ,
Чтобы накал его тонкий,
Припорошённый снежком,
Не засмеяли девчонки
Пустопорожним смешком.
70-ые годы
х х х
Когда, словно море, вздувается пашня,
И лес - косогором, и нету дымка, -
Становится вольно, огромно и страшно:
Скорей бы увидеть дитя. Старика.
Когда вся Россия - как взгория эти, -
Душе неуютно, рокочет гроза ...
Один ты бежишь по пустынной планете, -
Но прямо поэзии смотришь в глаза.
1975 год
О К А
Счастливая затерянность.
Туда пойду, сюда ...
И всюду, всюду стелются
Родные города.
Плывут, перекликаются,
Прядут лесную нить,
Никак не догадаются
Меня остановить.
1975 год
х х х
Константину Паустовскому
"Далеко ли до Тарусы?"
Пешим ходом "полчаса", -
Отвечали люди русы,
Дальние их голоса.
А поля ещё не сжаты,
И туманится овраг...
Мне не надо провожатых -
Я найду дорогу так.
Далеко ли до Тарусы?
Под Тарусой - Велегож.
Ты бредёшь с незримым грузом,
Выше, выше - ты бредёшь ...
И, как сердце отступает
Перед этой крутизной,
Так твой груз легчает, тает,
Попадая в мир лесной.
У родимой у сторонки
Бьются лодки переправ.
Ты теперь меня, паромщик,
Хоть куда, - а переправь ...
Познакомиться в дороге
С сиволобым лесником
/С ежевикой в изголовье,
С крепковатым огоньком/.
" Спи покуда, - скажет, - мягко!"
И подкинет вдруг сенца.
"Нам с тобою, - скажет внятно, -
Не видать ещё конца".
И добавит осторожно,
Что велик и горек свет,
Что леса шумят, как должно.
Человека только нет.
Из книги "Есть музыка"
х х х
Светло-серебряный ноябрь
Внезапно взял свои права,
Как будто озорной звонарь
Рассеял звон у Покрова.
Как будто долгожданный дар,
Вздох облегченья дорогой -
Мороза первого удар
И лёд, опревший под ногой.
Как трудно в комнате сидеть,
И в воздухе какая мощь,
Когда лишь начали седеть
Виски у балочек и рощ,
И голосами бубенцов
Мы все в тот час опьянены ...
С гореньем лиц, со скрипом льдов -
Что лучше молодой зимы,
Когда тончайшая лежит,
Когда у нас не отнята,
Хоть босиком по ней беги -
Испуганная чистота!
Начало 70-ых
х х х
На краю большой моей светлицы
Наплывают внятные слова.
Музыка в ладони мне ложится,
Как звенигородская трава,
Здесь никто покоя не отринет:
Мир полуозвученный - он твой!
Здесь никто, всесильный, не отнимет
Облако над буйной головой.
Крепнет мыслей чистая стихира,
Высыхают капли на челе, -
И полуразрушенная лира
Оживает в солнечной земле.
Начало 70-ых
П Р О З Р Е Н И Е
Войдите в лес, как в благовест.
Войдите в лес без задних мыслей, -
Не чтоб устраиваться здесь,
А всё прямей и бескорыстней.
Не надо лес ценить на вес
И золотые рушить клети:
Он нас мудрей, и все мы здесь -
Его застенчивые дети.
Я в лес вхожу, как в чистый дом,
С простоволосой головою,
И мою ноги под бугром
Рекой холодной ключевою.
Я в лес вхожу, как в доброту,
Как в давний светлый день рожденья,
И тает у меня во рту
Смолистый корень наслажденья.
Мой лес - как звончатый оркестр
Протяжно-нежных инструментов.
Все ели пасмурные здесь
Стоят в военных позументах.
Мой бор - как солнечный собор,
Как окруженье зыбких ликов,
Хранящих с допотопных пор
Покой земли моей великой.
В том храме грязь оставить -
срам.
Но можно в нём оставить душу.
И незаметно можно там
Чужую молодость подслушать.
И в смутном лепете речей
Ещё не оперённой рощи
Я слышу древних москвичей
Призыв томительный и мощный ...
Леса! Спасители времён ...
Да будет мир нал каждой веткой.
Не там ли вятич погребён,
Зажавши меч рукою крепкой,
Где расступился тихий бор,
Впустив меня в свои тенёта,
Где благосклонный солнца взор
Сулит обещанное лето.
Мой лес колеблет колыбель.
Он ветра русского обитель
И только сероглазый Лель
Его хранитель и смотритель.
Лесник промчался на коне
В ту даль, где нас нельзя обидеть.
Я жить хочу в моей стране,
Что б снова лес весной увидеть.
Чтоб слабость радостную сжать,
Услышав, как река ликует...
И не прервётся жизнь опять,
Любя, тревожась, и тоскуя!
Начало 70-ых. Из книги "Серебряный бор"
х х х
Есть счастье: в зимнем домике
проснуться,
В сад распахнуть засохшее окно,
Стихами, словно ветром, захлебнуться -
Своими ли, чужими -
всё равно...
Середина 70-ых годов
х х х
Недолго спать в бесчувственной зиме.
У горниц леса - новое убранство.
Мы улетим на старенькой Земле
В зелёное весеннее пространство.
Мы снова Мценск песчаный посетим,
В смолистой Ельне песням предадимся,
Кого-то ненароком просветим -
И сами добротой обогатимся.
Хранит Солотча сладкие ключи,
В Тарусе можно памятью согреться.
Горят в Клину две звездочки в ночи -
И я на них смотрю из окон детства...
/1980 год/
х х х
Я бы стала на колени
Перед бархатным оленем,
Перед елью вековою,
Перед мятой луговою.
Но в природе нет оленей -
Есть лишь головокруженье,
Непонятное томленье,
Слабый блеск воображенья.
Он мне дорог больше ёлок,
Больше странствий по Отчизне
И, быть может, больше жизни -
Этот о т б л е с к н е д о м о л в о к.
/Конец 1970-ых годов/
х х х
Моя любовь сильнее вашей злобы.
Мне хочется лелеять, а не жечь.
Я буду жить томительные годы
И зорко эту истину беречь.
В сырой траве найду свои алмазы,
В речах детей найду свои слова.
Я вам близка, но к вам приду не сразу -
Не так проста, но попросту права.
Я пожалею странника, старуху.
Меня цветы дремучие поймут.
И люди, мне далёкие по духу,
Меня, окликнув, дочкой назовут.
1980 год (?)
Сон Шопена
Будто снилась Варшава.
То ажурные парки,
То старинных домов
Купидоны и арки.
Будто снились фонтаны,
Что ночами играют.
Только нет тех фонтанов -
Я сквозь сон понимаю.
Снилась Висла в разливе.
Усадьбы и вётлы.
У панянок красивых
Губы злы и обмётаны...
Или снились ручьи,
Что весною пульсируют,
И ветры ничьи,
Что с листвою вальсируют...
Но спиральные вьюги
Полетели куда-то,
Где свободы потуги -
Как любовь без возврата.
Снилось мне: то мазурка,
То немецкое братство...
С н е г. За окнами гулко.
...Только б не просыпаться!
Конец 1970
х х х
Зинаиде Палвановой
Двухколёсная лошадка
В баньке жалобно ржавеет.
Расскажи, моя машина,
Сказку детства моего.
О тебе. "Прогресс" отцовский,
Ни одно не пожалеет,
Кроме сердца благодарного
Смешного моего.
Смажу я твои детали.
Отцеплю крыло больное.
Уноси в Долину Правды -
Хоть на вечер, хоть на час ...
Я с тобою распознала
Хлеб насущного полёта.
Это горний ветер счастья
Над землёю держит нас.
Твой хозяин - неведимка.
В генах дочки он бессмертен.
Но учившийся полёту
Не забудет свой полёт.
Ветерок велосипедный,
Чудо высшего восторга,
Как победа над собою,
До сих пор в ушах поёт.
Мой пертетуум-мобиле,
Мое детство заводное,
Горбунок рогатый дачный -
Все разлуки мне прости!
Мчится времени машина
Только так, а не иначе:
Люди взрослые стареют
С хлебом юности в горсти ...
80-ые
САШКИНА ЛЮБОВЬ
(ИЗ РОМАНА СТИХОТВОРЕНИЙ)
На обороте шмуца
х х х
В жизни, начинающейся болью,
Недоумением, бессилием,
В жизни, продолжающейся оскорблением,
Глумлением, насилием,
В жизни, заканчивающейся пеной
У мёртвого рта,-
Что за чудо
Была твоя ласка
И доброта...
25 января 2007
Колокола
Мелодия из кинофильма "Осень"...
А может, из рассказа "Осенью"...*
Твоих волос беспечная волна,
Ещё не тронутая проседью...
Мой там, где щитовидки нет, лишь рудимент, давно, -
Средь горла ком...
При чтеньи писем.
И стихотворений...
.......................................
А наших слёз прекрасное вино!
А тайный пир всех наших примирений!
Озон грозы.
Нам надобен озон...
Ещё прекрасней после гроз живётся.
... А дверь столетья милого:
- Динь-дон!
Так сыр душист...
И "каберне" так пьётся!
Мы кончим миром.
Ты же пахнешь сыром...
И, розовый, приходит важный кот.
И ест он так, что только хруст идёт...
Соперники дерутся поутру:
Кот бьёт кота, жить не велит коту...
А в поле колокольчики цветут.
И мой романс, толстовский, тут как тут
Спасибо, колокольчики полей!
И звонкая гармоника дверей.
Мелодия из кинофильма "Осень"...
13 апреля -- 26 апреля 2006
Ретро о первой любви.
Встреча. Воспоминание о 1978-ом
В Михайловском, на мостике горбатом,
Ты кормишь белых уток белым хлебом, его кроша в
холодный чёрный пруд.
Ты в отпуске. Ты летом. Ты с подругой
Неторопливо, громко говоришь...
Я вдруг узнал - узнал! - ещё б не знать! -
И этот, мощных децибелов, голос,
Певучую и ласковую мову,
И платья твоего аквамарин,
И облако волос...
2006 год
___
-
* В. Шукшин
Тебя окликнув,
Я отчество с иронией привесил.
Ты не успела оглянуться, но
Акцент полтавский вычислила мигом!
И, увидав под навесью ветвей
Улыбку и смуглявую фигуру,
Спорхнула с полукруглого моста
В нежданном для толстушки пируэте...
Мою ладонь в ладонь свою взяла.
Косящими глазами заметалась...
Но не решилась и не обняла.
И наша пара не поцеловалась.
Лишь горяча ладонь...
А угли глаз
Кричат о том,
На чём - не обожглась...
- Вон там идут жена моя и сын!
- А я - одна!
- А я вот - не один... Пиши! Звони! Прости дурацкий вечер...
- Да! Глупая обида. И - невстреча...
- Ну, что теперь рядить... Чего уж там...
- Как сказочно везёт сегодня нам!!
- Да! Пушкин приголубил Украину...
...Легенда? -- Быль. Баллада и былина...
Твоя одышка...
И твоя подруга...
И я семейство догоняю лугом...
А вижу: мы созвучны,
как на горе!
И ты - моя Аксинья,
Я - Григорий!
Но что-то ты так долго не звонишь...
Всё в том же лете,
В предвечернем свете,
На мостике в Михайловском стоишь!
7 апреля 2006
х х х
...А знаешь,
За что ещё я люблю тебя?
Ты позволяешь себя жалеть.
А сердцу, жаждущему состраданья,
Это необходимо.
Колючие и чужие души
Жалеть себя не позволяют.
У-у, как чисты они, холодны!
Они без меня обойдутся.
Вернее,
Они слишком строги для счастья.
А счастье - это, может, всего-то -
Слезу твою утереть.
15 января 1984
Сентябрь
Очистительный, занудный, затяжной
Дождик серенький осенний обложной.
Вот и листья золотые потекли.
Вот и зонтики цветные расцвели.
Ничего, - прохлада лучше, чем жара!
Детям - в школу, нам - за хлопоты пора.
...Под дождём проходят люди без конца,
Только нет в толпе любимого лица.
Только друга нам в Москве недостаёт.
Но сентябрь и эту боль дождём зальёт...
Ради друга - и надейся, и томись!
Но ветра залистопадят эту мысль.
1980-е -- декабрь 2006
Комната с фотографиями
.. .Вздремнулось днём.
И, в грёзе, показалось,
Что ты, в костюме тёмном, белой блузке,
С копной волос на лбу
(точь-в-точь на фото!)
Склонилась надо мной,
Расставив руки,
Как наклоняются над родником;
И смотришь, легкомысленно и властно,
О счастье низким шёпотом твердя,
По-прежнему жива, сильна, прекрасна, -
Всё смотришь, улыбаясь и любя...
1-7 апреля 2006
х х х
Не ханжась и не монашась,
Затыкая сплетням рот,
Чувство наше,
Повесть наша
О бессмертии поёт.
Губы горем обметало.
Но, созвездий горний свет,
Ты моею музой стала,
Где посмертье - род кристалла.
Порознь нас отныне - нет!
26 мая - 9 ноября 2006
Воспоминание в Пушкинских Горах
Июль на Старой площади.
Прохладно.
Ты - в пыльнике. Он чуть коротковат,
И он не прикрывает сарафана,
Который простовато сшила мама.
На полной шее - шёлковый платок.
Наш разговор - сочувствия глоток!
А я - в ещё студенческой штормовке.
Мои движенья скованно-неловки.
"Гавроши" прядей ветер теребит.
Автобус под собором прогудит...
Румяный вечер. Ждущее затишье.
И ни о чём почти что болтовня.
Но резкий запах терпкого жасмина
Извлёк из нерешимости меня!
Миг - и дурмана сломанная ветка
Подарена тебе, как шифр и клетка.
В глаза ты смотришь пойманною птицей.
Твой взгляд договорить слова боится.
Ты - старше.
Я - дитя ещё...
Ты - старше...
Но жалость или страсть уже на марше.
Ты по-кошачьи трёшься о плечо...
И тут жасмин срываю я ещё!
И снова подаю тебе - порукой,
Что будешь ты надёжною подругой.
Груб, дерзок запах лепесточков белых.
.. .На миг запнулась, после - побледнела.
Какой-то вздор бессвязный понесла...
(Четвёртого или пятого числа?)
И веточку жасмина стала грызть,
Как дети - карандаш, художник - кисть...
Восьмого провожала на вокзал.
Твой рот мои "гавроши" целовал.
А мой дневник забыть никак не мог
Обкусанный волненьем черенок.
17 июля 2006, пос. Воронич
х х х
... А нельзя ль на миг остановиться,
На скамейку у дороги сесть,
Запрокинуть тающие лица,
Скудный завтрак незаметно съесть?
А нельзя ль
Серебряного века,
Полистать любимые стихи?
Вырваться из плена человека,
Быть собою - быту вопреки?..
Но уже не помогает это,
Беспокойство червем завелось, -
И идут шарманщики, поэты
В край, откуда детство началось.
Их никто отлёта не заметит,
Им никто покоя не прольёт,
Лишь порой отверстие в кларнете
Троезвучно ветру подпоёт.
1977 -- 2006
Ночь, после боя курантов
Я жду друзей, как правды ждут
Я верю, что они придут,
Чтоб стал он светлым поскорей,
Мой дом без окон, без дверей.
Я жду. Чтоб дом мой, как кристалл,
Казаться мне волшебным стал -
Стихами, чаем разлитым,
Едой, покоем обжитым,
Гитарой, песнями гостей
И ласточками новостей...
Я жду, чтоб действо началось,
Поскольку главное сбылось:
Мы - не одни.. Ведь ты со мной
В моей обители земной!
Пускай жильё - как ветхий плот:
Наш это первый Новый год...
1 января 1978 - февраль 2006
ул. Молдагуловой - Переделкино. Москва.
х х х
Белые ночи любви -
Как на качелях вдали,
Не были - были,
На Псковщине плыли
И растворились, ушли.
Поезда скорого стук.
Горло уколется: друг!
Плач твой от жалости...
Мелькни, пожалуйста,
Плащ твой, и ласточка рук!
Белые ночи. Собор.
Скомканный наш разговор.
Не были - были,
В небо уплыли.
В необретённый простор...
10 сентября 2006. Пушкинские Горы.
х х х
Что я помню?
Смех и слёзы.
Город. Холод. И - людей!
Сосны, ёлки да берёзы,
Да над Соротью музей...
Шум общения и дружбу,
Облетевшую, как лес.
Над Москвой и Прикалужьем -
Знамя пушкинских небес.
А ещё - в недальнем лете -
Бодрый мамин говорок,
Школьной сцены тёплый ветер,
Непоследний мой звонок...
Затянувшееся детство!
Бесконечный строй обид...
Всё моё велосипедство
Из восьмёрок состоит.
Жизнь как будто поминаю,
Чьи-то вёсны, чей-то снег, -
А в итоге получаю
Только слёзы, только смех.
Но серьёзная, большая
Разом сжегшая мне кровь, -
Окликает, упрекает,
Не кончается любовь!
Смех и слёзы. Смех и слёзы.
Мамы нет.
И друга нет.
Светят псковские берёзы
Бесприютности вослед.
И последний крик сиротства -
Фотокарточке твоей -
Разорвётся, разольётся.
Растворится средь полей...
28 декабря 2005
х х х
Нежность моя!
Чем тебя мне избыть?!
Не отпускаешь ни днём, ни средь ночи...
Вижу всё то, что нельзя воскресить.
Вижу тревожные, горькие очи...
Непостаревшее вижу лицо.
И молчаливое это страданье...
В комнатах пахнет роднёй и отцом...
Слово дано -
Только нет пониманья.
В письмах твоё потонуло: "Спаси!.."
В письмах твоё одинокое: "Где ты?"...
Помнишь?
Моё: "Не горюй! Не грусти..."
Осень. Акация. Выхлесты веток...
Долгий и страшный учительский дождь.
После - на письма неотвечанья...
После - "Придёшь?.."
И последняя дрожь...
Ныне - уже гробовое молчанье.
.. .Этот отчаянный жизни прыжок -
Неутолённой, бунтующей, сильной!
Эта беспомощность...
Сердца ожог...
Мы - словно дети, которых - забыли!
Счастье людей не нужно никому.
Будням солдатки нужны да солдаты.
В душу твоём леденящем дому
Лепетом только мы были богаты...
Нежность моя!
Ни обнять.
Ни простить.
Это нелепо, что я существую,
Что-то пытаюсь тебе объяснить
И волоку свою долю пустую!
Было непросто.
Серьёзно.
Светло.
Но - глубоко.
Потому и непросто!
Был человек,
Было жить для кого.
Были возможны наивные слёзы...
Кто я теперь?!
Человек-автомат?
Самоубийца?
Безумное чадо?
Песни мои, словно свечи, горят.
Но "красоте же и песни не надо..."
6 мая 2006 года
х х х
Не исчезай, комочек в горле, Воспоминание души!
...Прижмись ко мне главою гордой,
Письмо мне снова напиши.
Дай унести в пустую вьюгу
Румянец персиковых щёк,
Глаза единственного друга
И голос - альтовый ещё,
Ещё не сломанный саркомой...
И смех твой громкий, молодой,
Пускай объявится знакомо,
Грозящий счастьем - не бедой...
Ты-жизнь.
Тебя не заменяют.
И вновь такой не зародить.
А душу просто выпускают
Из клетки,
Отрывая нить...
Не уходи!
Живи. Тоскою.
В слезах любви моей большой...
Ведь знаем только мы с тобою,
Что мы слились - душа с душой
В тоннеле ночи без желаний Открой мне снова дверцу сна,
Как будто манит на свиданье
С тобою
Вечная Весна...
Промчись со мной в одном вагоне.
В Пушкиногорье помолчи.
Как прежде, дай в любимой школе
От дома старого ключи.
Пройдись со иною в Белой Церкви.
Верни арбатские дворы!
Припомни Каменки осенней
В окне воздушные шары!
Звенигорода потрясенье...
И обретенье тишины,
Когда мы, волей провиденья,
Согласные видали сны...
Живи.
Всё той же сладкой болью,
Дыхание перехватив,
Как писем, сложенных тобою,
Печально-ласковый мотив,
Смешливо-горестная повесть,
Высокий истинный роман,
Что правды требует, как совесть,
И не исчезнет, как туман.
Он тянется дорожкой в Космос,
Всех слёз твоих не осушив,
Моих подростковых вопросов,
Оборванный,
Не разрешив...
10 мая 2008 года. Москва - Свиблово
х х х
...Тёплый, колючий ёжик любви, --
Что ты в горле моём першишь,
В сердце моём пищишь? Так по-детски кричишь...
Некуда больше мне тебя деть.
Некем отныне владеть.
27 мая 2010
Зов
"В лесу под ногами - гора серебра..."
(Николай Заболоцкий)
В этой жизни, где мало любви и добра,
Ты одна подарила мне холм серебра,
Где ханжи, дураки, подлецы и чинуши
Распинали мою полудетскую душу, -
Ты одна колыбельную песню мне пела,
Ты одна пожалела и душу, и тело,
Мне послышался зов: "Возвращайся. Усни.
Позабудь окаянные, страшные дни.
Я - твой ангел земной и посланник астрала.
Для житья под Луной здесь нам воздуха мало!
Да и я пред тобой без вины виновата:
Чтоб летать - не хватает мне здесь аппарата.
То, что видишь - лишь только души оболочка.
(Помнишь, спорили мы, что сорока - с о р о ч к а?)
Рок мой пробил. И рог протрубил.
Ухожу.
Смерть - не сон: пробужденье.
И я тебя жду..."
20 августа 2007 г.
х х х
...Когда я долго плачу, --
Ты в мой приходишь сон
С ещё не изменённым от времени лицом.
Манишь и утешаешь, крепка и хороша,
Жизнь без тебя страшна и
Не стоит ни гроша.
Когда я горько плачу,
Ты снишься иногда --
Навеки молодая, родная навсегда.
Мы приданы друг к другу,
Желток мы и белок.
Никто, никто покуда
Нас разлучить не мог!
И длится миг огромный,
И теплится очаг...
И космос -- весь! -- бездонный
В смеющихся очах.
Но сон меняет кадры --
И таковы все сны:
Взрываются петарды
Зелёные весны.
Друг друга окликая,
Мы в городе вдвоём --
Бежим, летим, мечтаем,
Болтаем и поём...
Наш солнечный троллейбус,
Наш ласковый трамвай,
Наш непочатый ребус,
Наш глобус -- в е ч н ы й м а й...
А жизнь ещё -- большая, и ты -- не умерла.
Лишь детские тетрадки сместила со стола.
Я чувствую объятье,
Как будто наяву!
Ведь если долго плачу,
То я тебя з о в у !..
И слышишь ты, конечно...
Но трудно целый век
Летать с другой планеты,
Мой бедный человек!
3 октября 2010 года
х х х
"...Но жалко любви,
А любимой не жалко." /Юрий Ряшенцев/
"...а только эту зелень,
сводящую с ума..." /Сергей Казнов/
"Пали снеги..." /Из бардовской песни/
...Нет, --
и с н е г и,
и зелень,
И тебя, и меня
Жаль!
И нет мне спасенья
От былого огня.
Возвращается -- Боже! --
Каждый взгляд, каждый год,
Дорогой мне до дрожи
Твой улыбчивый рот.
Наши споры и слёзы...
Горы книг на полу...
Наши детские грёзы
В подмосковном бору...
Доброты этой чудо,
Эта слабость и -- власть.
Твой безудержный юмор.
Твоя терпкая страсть...
Наша нежная дружба,
Путешествий мечты...
Никого мне нужно,
Если отнята -- ты!
Нет: не только зарницы
Грозы молодой --
Твоих писем страницы
Стали былью святой.
Ч е л о в е к а не стало.
Он -- дороже всего.
Только раз просияло
Бытие одного...
А метель заметает
Ворох прожитых лет.
Да ведь с н е г и растают,
Боль сердечная -- нет!
18-19 января 2014 года
СИЛА ДОБРА
(Эссе)
Памяти учителя
...Петрович сидел за казенным скучным столом. В меру упитанный. Обиженный. Ему, директору, на днях бросила в лицо гордая учительница литературы - русского: "...А остальные оценки пусть выставляет дирекция!" - и прошествовала по коридору походкой королевы Шантеклера.
- Вера Вениаминовна! - заорал бедный директор, выбегая в коридор,- не становитесь в позу! Все вы добрые, а мне стекла бьют!
Учительница милостиво оглянулась. С усмешкой обронила:
- Ну, я-то н е б ь ю д и р е к т о р у стекол.... (Назову его Александром Петровичем).
В письме последовал усталый вздох: "Та курила в школе... Тот сбежал с урока... Снижай им за поведение! Уйдут ребята из школы - плевать всем будет на это поведение!"
А как же. Для плизиру надо форму блюсти...
----------------
Начало девяностых годов. Развал державы. Очереди за водкой. Темный промозглый декабрь. Слабость в теле и суставах - от радиации. Плевки Чернобыля... Веры нет и нет дома. Я волнуюсь. Зажгла свет в кухне на Попудренко. Включила "Украинское радио". В эфире - уверения, что "це арийська раса"... Выключила. Где Верунька? Девятый час вечера... Натягиваю куртку, ключи в руку и бегом! (Благо - школа в 10 минутах ходьбы от дома...)
Темные зимние сумерки. Пустынная улица "Будивельникив". Равнодушная пустота вестибюля. Но наверху слышны голоса! Должно быть, нянечки-дежурные еще не разошлись... Взбегаю, чуть задохнувшись, на третий этаж. Распахиваю дверь кабинета литературы... Она!
- Вера! Что ты делаешь?! Отчего не позвонила хотя бы?!
Малева невозмутимо кромсает бумагу. Делает "лапшу" из листков и складывает в аккуратные стопочки.
Я сажусь на первую парту.
-
Это интеллектуальное занятие нельзя завтра продолжить?
Длинная пауза. Поднятый на меня волевой "медвежий" взгляд:
- Мне э т о успокаивает нервы...
...Пьем чай ночью при полупогашенном свете. "Миньон" создает иллюзию уюта. Не терплю полного света - он обнажает растерянную пустоту углов, прошмыгнувшего под плитой таракана, давно не обметенную копоть с потолка... Вьющиеся листья "висючек" и декоративной крапивы. "Ванька-мокрый", перцы, алоэ, коланхоэ, маленькие нежные фиалки придают кухне обжитой и приветливый вид. Душистая свеча создает интим... Тихий ужин. Вкусно! Вера хороший кулинар...
- Вер, почему у тебя чайников для заварки столько? На кой? И, главное, все крышечки - без отверстий... Оплошал чудак-мастер. Всякий раз надо сдвигать крышку после заваривания, чтобы из носа на скатерть не побежало...
Вера вздыхает флегматично:
-
Чайники? Что чайники! - как сказал бы бедный и пьяненький какой-нибудь герой Достоевского... Эти чайники. Танюша, - все ведь память о чем-то!
(Она пододвигает самый большой - нелепый, старообразный, аляповато разукрашенный и щербатый).
- ...Вот я помню, как отец покупал этот - трактирный - чайник! Как мы ездили за ним в Клин! Как в магазин заходили. Какая погода была, как лошадки бежали... И набирал отец покупки - на всю семью. И Вовка, брат, был маленький... Разве объяснишь?...
Отца уже нет. И мамы нет. И брата... Пал косвенной жертвой Чернобыля - энергетик. Нераспознанная лакунарная ангина. Плюс малевская беспечность и простодушие - по отношению к своему здоровью... Добрый застенчивый спортсмен... Вера закрывает глаза. Дремлет. И внезапно испуганно пробуждается:
- Какой... страшный сон я видела, Танечка, - лепечет она, не отрывая голову от подушки. - Мне снилось, что на кухне собрались все они: и мама, и отец, и Володя! Брат держит в руках страшное, окровавленное мясо! И жутко хохочет, истерично... И - ты здесь, в стороне! Ты кричишь:
"Вера! Спасайся! Беги! Не верь! Это - оборотень, о б о р о т е н ь !"
Я почувствовала холодок, пробежавший мурашками по коже.
Вера! Слово "оборотень" только что было у меня в голове!
............................
В 148-ой у кого-то кто-то умер. Учительницы решили: поддержать коллегу, заменить ее на день-два на работе, то бишь.
Петрович уперся - и ни в какую. "Да мы же ... добровольно! Мы сами так хотим!" - Нет и все.
И тогда Вера не выдержала. Шагнув к столу Петровича, она заговорила жарким шепотом:
- Вы - извините - человек еще м о л о д о й ! Надо быть ч е л о в е ч н е е !
Директор откинулся в кресле. Испуганно уставился на учительницу.
Малева смотрела на него округлившимися каре-золотистыми глазами и повторяла: "Надо быть человечнее!.."
Директор не на шутку сконфузился. Нет, он не накричал на подчиненную. Не стал отстаивать свои бесчеловечные принципы. Просто при первой подвернувшейся возможности он уволил преподавательницу литературы-русского из 148-ой. На законных основаниях: пенсионный возраст.
Встречая его на улице, Вера непроницаемо улыбалась - своей этикетной, широкой и полногубой улыбкой. И шла своим путем...
Вскоре русисты в Киеве стали не нужны. А затем на смену "жёвто-блакитному", пришел и оранжевый маразм.
Вера переносила шок стойко, молчаливо, мужественно. Почти не плакала. Иногда ее приглашали на какой-нибудь вечер или "звонок" молодые коллеги - как ветерана школы. Порой она подрабатывала - там и сям, даже у мусульман русский вела. Даже неграм уроки давала. ...Безвозмездно опекала онкобольных детей - по совету подруги-психологини.
А однажды я вошла с авоськой, с улицы - и залюбовалась Малевой: она объясняла правила русского соседскому мальчишке. Но это был моноспектакль. Вера похорошела, расцвела, гордо вскинула свою "античную" курчавую голову... "Десять лет сбросила", - подумала я.
С наступлением безработицы она как-то стремительно начала стареть...
--------------------
- Плохо без детей, - раза два при мне обронила учительница. - У меня давление снижается, когда я в школе! Плохо без детей...
На стене, в ее просторной и всегда - даже летом - холодной спальне, на выцветших, неопределенного цвета обоях в разводах старого клейстера, над развалом книг - учебников - тетрадок, в беспорядке накиданных тут и там, бросался в глаза фотопортрет маленького улыбчивого мальчика.
Когда-то племянник впервые увидел в Киеве грача - и, задыхаясь от радости, выкрикнул:
- Га - а - ач!..
Тетка смеялась, вспоминая этот эпизод. Ей всё казался племянник-бизнесмен тем трогательным малышом. К людям, детям, животным Вера привязывалась страстно, безрассудно, отчаянно...
Если Евгений Богат прав, и существует "духовное материнство", - то Вере оно было присуще как никому. "Родственное внимание", по термину Пришвина, ее душа источала почти непрерывно - к дальним, близким, родным по крови, родным по духу - и вовсе малознакомым людям. На улице могла, не рассуждая, вмешаться в драку, чтобы разнять опасных дерущихся - пьяных и с тяжелыми предметами в руках...
В школе не все знают (с "украинским" ныне уклоном), что эта девочка из Подмосковья, воспитанная на образцах учительской этики а-ля фильм "Первая учительница" (с Марецкой) бросалась защищать "трудных" подростков, "сложных" детей, "опасных" юных диссидентов, цыганят, жертв насилия, нечистоты семейной, - детей рабочей окраины Киева - Дарницы. Ходила в милицию, сражалась со следователями, выслушивала гадости от них, мотала себе нервы. Без корысти. Ни за грош. Малева была доброй безвозмездно. И ей хотелось думать о людях лучше. Может быть, ей так было легче...
- Ты чего дневник-то личный на койку в гостинице открытым бросила? - пеняла я подруге. Она лениво отбивалась:
- А!.. Кому я нужна? Я привыкла всех подозревать в порядочности!
В письмах не раз я просила ее не идеализировать людей, в том числе - мою персону.
Малева терялась. "А почему - не идеализировать? Надо радоваться людям!" - растерянно аргументировала она свое поведение.
(Впоследствии это радованье я запомню как её завет мне - навеки...)
Впрочем, то был, конечно, еще и выплеск ее темперамента - не то что нездешная энергетическая щедрость, а инопланетный магнетизм, истинно космическая способность излучаться! И постоянное "донорство" души. Вечно дежурила в больницах у друзей... Потребность заступаться. (Этот поток жизнетворной "праны" иссякнет лишь за месяц до смерти ее от саркомы).
--* --
"ГОЛОС ЕЕ ГРУБОВАТ. ГУБЫ - ТОЛСТОВАТЫ... ОДЕВАЕТСЯ ОНА В ПРОСТЕЙШИЙ РУССКИЙ САРАФАН... ГЛАЗА ГЛЯДЯТ И НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЮТ ЗЛА... Я ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ" (Из сочинения среднекпассника).
Под этими строчками простодушного ребенка подписались бы десятки Верочкиных выпускников, а также друзей и приятелей ее:
Евгений ПЕРКОВСКИЙ (ученый-биолог, киевлянин);
Наталья КОЛЫБИНА (по слухам - ныне москвичка и жена дипломата);
Василий ОЧЕРЕТЯНЫЙ (актер и ныне тоже москвич);
Юрий МЕНЬШОВ (писатель-прозаик);
Саша БЕДОВ, Лина (Элька) ЕЛИШЕВИЧ (ОШУРКОВА), а также работники Пушкинского Заповедника (Псковское Михайловское), химики и лирики Москвы и Клина; москвичка - я...
В страшном октябре 2003 года я потеряла маму.
И не успела оправиться от потери. Ровно 2 года спустя я осиротела вторично. Потому что каждому, кто соприкасался с Верой Малевой, она казалась всехней мамой и "Древом Жизни". (Надо миллионы лет скитаться во вселенной, чтобы встретить тебя!" - напишет одна из её подруг).
А для меня среди 6-миллиардного Человечества Верунька была, есть и будет вовеки самым родным и драгоценным человеком.
Я не дам её забыть...
(Это мой обет Богу и людям!)
Твои письма... Это же стихотворения в прозе!
Максим Горький мечтал создать архив наших жизней.
Дать прозвучать в эфире радио хотя бы строчке, фразе о живущем в России человеке...
Девочка из клинского села Селенское, она же киевская учительница литературы-русского Вера Вениаминовна Малева заслуживает повести, а не строки... Да, возможно, не одной.
Говорят, Велимир Хлебников был поэтом для поэтов. Себя он "роздал" поколениям поэтов-потомков и современникам.
Вера Малева (не путать с однофамилицей из Молдавии!) р а з д а л а себя друзьям. Я перечитала ее письма. И увидела книгу, которую мой друг, как раскрытый некогда дневник, беспечно забыл - бросил раскрытым в гостинице...
-- * --
Некоторым она казалась легкомысленной.
Легкомыслие? Нет, не то... Трудоголик. Самоотверженный педагог-товарищ! Совсем не то. Жила анахоретом. О тряпках - ни малейшей заботы... Любимый писатель - Лев Николаевич Толстой. Любимый роман - "Война и мир". ("Я вас всех любила... И что же вы сделали со мной?...")
Еще о вкусах Веры Вениаминовны: Андрей Платонов, Сергей Есенин, Константин Воробьев, Нодар Думбадзе, Умберто Эко, Быков ("Ять"), Николай Рубцов; Достоевский, Тютчев, Тургенев, Твардовский, Гончаров, Шукшин, философ Владимир Соловьев... Гоголь, Щедрин, Василий Гроссман... и - Пушкин! И - Шестая симфония Чайковского! - Легкомыслие ?...
Но в чем-то автор реплики прав: поступки ее бывали странны и необычны, отдавали неотмирасеготинкой, что ли? Укушенная неизвестной собакой на улице (что было спровоцировано ее собственным псом), она преспокойно собиралась ко мне на новоселье: "Найдется же в Москве какой-нибудь, я думаю, травмопункт!"
Буквально "топая ногами" (по телефону и в письме) я разъясняла великовозрастному "первокласснику", забывшему уйти из школы, что в "травмопунктах", да еще под Новый год (!), да еще без московского полиса, подобные вещи не делаются, что к рабиологу в поликлинику надо мчаться рысью! В Киеве...
В тот раз мне удалось отговорить Верочку от неразумного поступка. Встречу пришлось отложить до мая месяца...
Но зловещая шишка на бедре моего "Стрельца" стала с той поры подозрительно подрастать...
Книжный ребенок. (Детские прозвища - "мимоза" и "муха" - за ранимость и замкнутость, безобидную погруженность в чтение). Часто и мучительно-скорбно (уж это-то мне известно!) она размышляла о смысле жизни, о своем месте в ней. Самоосуждение было ее бичом.
Вспыльчивая, как порох, она была отходчива, как дитя.
Но Вера была не легкомысленной, а иномысленной.
Будто прилетевшей из миров фантастических, отдаленных, но притягательно-прекрасных... Где все негры добрые, все дети - чисты и безобидны, а ключи от квартиры можно давать соседям, как сахар и спички...
Бывали у нее милые и непонятные пристрастия. Обожала, например, цыган! До такой степени, что приятель юности прислал ей однажды письмо с надписью в адресе: "Цыганочке Малевой".
В ней, до седины в кудрях, сохранялось что-то детское. Доверчивое. Пугливое... Судорожно боялась врачей. Их шприцы казались ей подозрительны.
Слепо доверяла наследникам.
И то, и другое сыграло с нею, в конце концов, роковую шутку...
Как и навязанный племянником тяжелобольной женщине большой и неопрятный пёс, перетаскивавший всю таблицу Менделеева со двора в квартиру одинокой учительницы.
........................
Бывшему школьнику, давным-давно успевшему получить в Москве высшее образование, Вера горячо доказывала, что московские педагоги не имели права "выгонять" ребенка из школы за неуспеваемость по математике; что мама плакала и боялась напрасно, что она просто не знала своих прав, что "нематематика" должны были вынести на руках в литературный класс...
Близко к сердцу принимала судьбы всех своих учеников: и самых интеллигентных - и беспутных, несчастных, угодивших в тюрьму...
(Главное - не ожесточить, не выпустить в мир духовно оглохшим!) Слала письма в армию... ("Пусть солдатики порадуются!") Спасала от цепких лап параноидальных ищеек тогдашней службы безопасности рассеянного тихоню, долговязого вундеркинда Перковского, сбежавшего в пустыню ловить бабочек сачком и зря болтавшего в армии, чего не надо, про колхозы...
(Как выяснилось - правду болтал. Но - преждевременно. За что и был побит среднеазиатом).
Впоследствии этого Женьку Вера, в слезах и отчаянии обзвонив подруг, спасет от страшной формы гепатита. Молодому ученому через Интернет нашли редкое лекарство... Браво, Верунь мой!
Я подумала: если бы у каждого была в школе такая учительница! Нет, это была бы инопланетная жизнь.
"Всехняя мама" спасала чужих детей.
Януш Корчак (рисунок работы Сьюдмака) был подарен мной Веруньке - и она сразу поместила образ польского подвижника под стекло старенького книжного шкафчика.
Великий Корчак...
И - скромная Малева?
Нонсенс?
Но почему-то они у меня - рядом отныне в сознании...
Потому что ДИТЯ-СВЯТЫНЯ съединило их имена.
И в моей - московской - щели-комнатенке, где я задыхаюсь после насильственного размена (1999 год) роскошной "коммунальной" квартиры родителей, на меня каждый день глядят их лица:
Корчака.
И - Малевой...
Я пишу о ней стихи. Я рисую её. Я начала вновь рисовать, как в юности, после 25-летнего, а может, и 30-летнего перерыва! И образ Друга оживает и теплится; Бог водит моей рукой - не мастерство. Рисовать-то я совсем-совсем не умею!
Это потому рисунки теплые, что Верочка оставила мне частичку своего биополя, своей бессмертной души.
... Кто она была?
Безусловно, один из самых искренних и ярких, пусть малоприметных, радетелей о р у с с к о й к у л ь т у р е Киева.
Лишить украинских детей Толстого и Чехова, "скостить" им Булгакова и Паустовского - это было для Малевой допингом к вялотекущей саркоме, катализатором её ухода на Тот Свет.
Политика русофобии тяжелым прессом ударила по учительнице, сдавила ее гордую, свободолюбивую личность...
Полукровка (отец - еврей, мама - русская, из крестьян), Вера была сызмальства, что называется, интернационалистом. В ней органично сочеталась страсть к русской культуре, русскому языку, русскому человеку - с толерантностью ко в с е м народам, нациям, расам. Даже немцев она жалела (прогон пленных по Москве, кинохроника военных лет!), никогда не путая народ, пусть даже в солдатских одеждах, с политиканами-нацистами...
Гибель СССР. Инфляция. Обнищание интеллигенции, не востребованной властьпридержащей элитой. Чернобыль. Дикость новой "петлюровщины". Террор в театре киевской Русской драмы...
Разве в судьбе Малевой не отражается трагедия многих, ранимых, чутких, с "высоким болевым порогом", не умеющих быть равнодушными, не смирившихся с утратой социального "статуса кво", не изменивших ни себе, ни России?
...Она читала мне однажды "Письмо Татьяны" из "Евгения Онегина" наизусть.
В августе 2005-го мы с Верой, дурачась, вспоминали наперебой "Дедушку Мазая и зайцев".
А 30 октября 2005-го ее не стало.
За три недели до кончины она подала заявление об уходе - это был капитан, покинувший "мостик", когда океан подступил под горло...
Слышатся ее слова, увлажненные слезами умиления:
К н я ж о в ы свечи! До чего хорошо... Не спорь со мной о Толстом. Люблю бородатого графа! К н я ж о в ы свечи... Хороший роман, Танька. Согласна?... Да вовсе не глупая Наташа Ростова! Она...м-мм... Она не удостаивает быть умной!
...Когда на уроке Вера доходила до сцены смерти маленькой княгини, всегда сильно щипала себя за соколок руки - чтобы не разрыдаться при учениках. "Я ВАС ВСЕХ ЛЮБИЛА И НИЧЕГО ВАМ НЕ СДЕЛАЛА. И ЧТО ЖЕ ВЫ СДЕЛАЛИ СО МНОЙ?.." Усики... У маленькой княгини они - те же, что и у Верочки... Еле приметные. Над верхней губой...
Иногда я просила её:
- Прочти из Евангелия! На церковнославянском...
И она читала - наизусть - притчу о зерне, упавшем на камень и на землю...
...А вот другой эпизод: я забыла стихи Апухтина! (В классе Веры читаю лекцию на музыкальную тему). Звучит Чайковский. Малева встает и помогает мне:
"...когда для жизни вечной
Меня зароют под землей,
Ты в нотах памяти сердечной
Не ставь бекара надо мной!"
...Или еще воспоминание - она на работе задержалась. А мне вдруг страшно, как в детстве, когда мамы долго нет: ч т о случилось? Хоть бы позвонила! И вмиг зловещими кажутся комнаты... О! Наконец- то! Зашебуршали дверные ключи... Замок - старый и разношенный - легко щелкнул. Ура!... Малева на пороге! Бросаюсь к ней... Её голова, как всегда, не прикрыта ни беретом, ни платком. Коротковатое пальто пахнет дождем, кудри - тоже ...
- Заяц, Заяц! - рокочет её учительское "контральто". - Дай же, погоди... пальто снять... Сумку тащи на кухню, Танюш, в холодильник переложи продукты. Я тебе ветчины купила - будешь ветчину? И кефир...
- Где же ты так долго... Господи! Я сама тут не своя уже!
- Заяц!! Вчытэлька была на в ч ы т э л ь с к о м собрании! Дай - чмокну в заячий нос! Собрались батьки...
... Вижу киевскую весну. И наши прогулки парком партизана Попудренко в 2004-ом... Наше тихое, под сурдинку, пение вдвоем, у бюветов, августовским вечером, в сумерках...
Вижу Чистый четверг 2005-го. Огоньки свечей в красных стаканчиках. Слышу Верино: - Христос Воскресе, Танечка!...
... Наши посещения церкви, посвящённой мученикам Чернобыля, в Дарнице...Двориков Вериного детства...
- Что-то я стала часто, Танечка, раннее детство вспоминать!
И последнее, страшное, её признание, в прохладном тенистом вестибюле 148-ой:
- Мне не подняться на второй этаж, Таня! Читай лекцию о Паустовском без меня. Я подала заявление об уходе... Дети не должны видеть, что учителю плохо...
Как же ты исхудала, бедная...
Вот и не стало этого дивного певучего голоса. Этого громкого хохота. Этого неотразимого обаяния, неподражаемого юмора... Этих рук, умевших медлительно, но обстоятельно сготовить вкусненькое... Этой роскошной шевелюры; тяжеловатых, но стремительных шагов:
- Ты что?! Звала, Танюш?...
... Она ушла в день, когда Православная церковь отмечает день иконы Богоматери Заступницы. И бессеребреников...
Вера окрестилась в 90-е годы. Она долго и трудно, искренне и честно искала свой путь к Храму. Следы этого мучительного поиска хранят письма Друга.
Ортодоксальным догматиком Вера, однако, так и не стала. (Как, впрочем, и автор этих строк...)
Ведь в е р а и догматизм - все-таки не одно!
Но... разве случайно она родилась 30 ноября, именины справляла 30 сентября, а ушла в день иконы 3 а с т у п н и ц ы -- 30 октября...
Она и была Заступницей.
По самой потаенной сущности своей.
Старшеклассники, да и взрослые люди порой исповедовались ей в том, что открывают только близким из близких...
При мне в далекие 70-е годы, в Пушкинском Михайловском, одна безрассудная девчонка послала родителям телеграмму:
"НИГДЕ НЕ ЖИВУ..."
Малева услыхала - и взорвалась:
- Как можно такое посылать родителям?! Немедленно исправить!
Знакомая операторша, со смехом, перезвонила, куда следует, и "отредактированный" Малевой текст обрел такой вид:
"У МЕНЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ..."
-- * --
За окном проносятся машины - или стоит гнетущая осенняя тишина; жил на Земле р е д к о с т н ы й человек, которому было дело до чужой боли, справедливости, чьих-то неведомых бед, интересов и радостей... Уже год привыкаю к этому слову!
Был... И подозревал ближних в порядочности.
Я тоже вначале обрадовалась, узнав, что племянник нанял пенсионерке-тетке домработницу (Вера уже не могла себя обслуживать).
Чистота в квартире и ликвидация рухляди вызвали бы у кого угодно положительные эмоции. Вскоре появилась новая "бизнесменская" железная дверь с необычайным замком... Современнейший плоский телевизор... Переносной телефон...
Женщина почти не могла ничего есть, а ей подарили второй (!) огромный холодильник. Вера была еще жива. А ей сменили сантехнику, понимая: сознание больной мутится, ей уже все едино...
Служанка следила лишь за гигиеной. Гуляла с кобелем, носила еду с базара да проверяла "сахарок в крови".
Вопреки моим мольбам - не связываться с коммерческой медициной. Малева доверилась ей безотчетно - и дни её были сочтены.
Медицинский центр "Борис", что близ метро "Республиканский стадион" в Киеве. Там, по словам невестки, была грязно сделана операция, кровь заражена, печень (и до того больная) поражена... На мои запросы, как могло такое произойти и зачем нужно было подобное изуверство, медики из "Бориса" отмолчались...
Умиравшей учительницей бесцеремонно манипулировали.
Бросили ее (после страшной операции!) на два месяца одну - в жарком Киеве с малоходячим псом - услав служанку в отпуск...
Более того: несчастной навязали в качестве гостей... двух туристок из Германии!
Оригинальный способ борьбы за жизнь родного человека...
По телефону мне, рвавшейся в мае-июне 2005 го в Киев, артистично (и цинично, как теперь стало ясно) лгали, что "ничего страшного", что "это пустячная операция", "незлокачественная опухоль". И доверчивая Вера поверила, что "это как зуб удалила"...
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ГЛАСИТ: РАК СТРАШЕН, НО НАДЕЖДА НА ИСЦЕЛЕНИЕ И ШАНСЫ НА СПАСЕНИЕ - В НАШИХ РУКАХ. ДОВЕРЯТЬ СЕБЯ НЕЛЬЗЯ НИКОМУ - ТОЛЬКО САМ ЧЕЛОВЕК, ВЛАСТИТЕЛЬ СВОЕЙ СУДЬБЫ, ДОЛЖЕН БОРОТЬСЯ ЗА СВОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ. Методов - множество, и здесь не место их перечислять. НО БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВДУ. Чтобы бороться и победить.
Я ПИШУ ЭТО, ПОТОМУ ЧТО ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ, ОПЯТЬ-ТАКИ, ТИПИЧНА. И - ТРАГИЧНА. Мне не впервые приходится сталкиваться с подобной "завуалированной эвтаназией". И хочется крикнуть всем доверчивым тетушкам, бабушкам, а особенно - не обремененным собственными детьми и уповающим на племянников и "невесток" (или предпочитающим таковых родным детям - из экономических соображений):
- Будьте бдительны!
...Прочтите самостоятельно хоть одну статью (брошюру, книгу) о болезни, которую вы у себя подозреваете. Проконсультируйтесь с неравнодушными и просвещенными специалистами - не один и не два раза!
- Дети! Не будьте Бармалеями! Будьте Айболитами! - кричали
веселые четвероклашки когда-то в школе у Малевой.
Но не будьте и котами Леопольдами, - заметим мы.
ПОЙМИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ НУЖНЫ НА ЭТОМ ЖЕСТОКОМ И ГРУБОМ "ШАРИКЕ" НИКОМУ! РОДО-ПЛЕМЕННОЙ СТРОЙ ЖИВ В ЧЕЧНЕ. У НАС ОН ДАВНО СКОНЧАЛСЯ. ДОВЕРЯТЬ В БОРЬБЕ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ МОЖНО ТОЛЬКО СЕБЕ, СВОЕЙ ИНТУИЦИИ, ДА ГОСПОДУ БОГУ...
- Оборотень! - кричала я ей в том - её - страшном давнем сне.
Оборотень! Беги, беги, спасайся, Верочка!..
-- * --
Сентябрь 2006-го. Еще не отпускает последнее тепло "бабьего лета". Я приехала в Клин, Под вечер добралась, на перекладных, до района Майданово - "малой родины" Веры Малевой. Бесцельно побродила парком Чайковского, берегами заросших прудов... Чёрных лебедей давно переловили и съели местные пьянчуги... Ребята жгли костры, кадрились с девчонками. Хлестали "Клинское" пиво... Давно закрыт завод "Химволокно", где когда-то работал отец моей подруги.
Снесены и "домики" - бревенчатые, послевоенные - где прошло раннее детство "мимозы", больше всего на свете любившей хорошие книжки... Я зря приехала! Я только расстроилась. Слёзы, утихшие было, вновь стали заливать меня. Вспомнилась недавно обретенная фотокарточка пионерки 1950 года: серьёзное личико, худоба, "трагический" взгляд... Маленький взрослый человечек!
Майданово... Я всё искала "домики". Хотя и знала, что их нет. Но кое-что от былого сохранилось. Скрипели старинные половицы. Шатались балясины ветхих лестниц. По пояс в росла в клумбу гипсовая девочка - салют 50-м годам!
Я заглянула в подъезд одного из двухэтажных домов, явно построенных пленными немцами.
Пахло мышами и, кажется, даже керогазами...
Подъезд показался мне странно знакомым. Дарница в миниатюре?...
Я поспешила уйти.
Уходя, оглянулась из полисадника...
В тёмном проеме дверей явственно мелькнула курчавая школьница! Её серьёзное личико было вопрошающе-печальным. Она что-то важное словно бы хотела спросить - и вдруг это бледное личико озарила широкая улыбка - добрая, понимающая, ласковая... И в каре-золотистых глазах мелькнули озорные огоньки...
11 октября 2006
Фиолетовая кофта
Работая над книгой о Веруньке,
стихи и прозу Другу посвящая,
захаживала я в библиотеку,
в один пустынный, чистый, свежий зал,
ремонтом только что преображённый
и акварелью маленьких детей.
На немурдящем этом вернисаже
Я забывала будто горе даже.
Так дети рисовать умеют Космос,
как будто он им близок изначально, -
ну, точно сад, Бессмертие, иль речка,
иль чуточку забытый внятный сон...
И в юношеской маленькой читальне
всем сердцем я от дома отдыхала,
где только многоликие кошмары,
быт неподъёмный, мёртвое безмолвье,
разгром и боль глядят из всех углов...
Сосредоточась на любимых письмах,
под вечер, завершая труд урочный,
глаза от рукописи отрывая,
увидела я Верочку живой.
Но только - на секунду - полсекунды!
И это - правда.
Рядом, в смежном холле,
где все подшивки старые листают,
о н а склонилась над столом и стопкой,
тетрадок,
россыпью каких-то книг...
Знакомо свисли шёлковые кудри.
Знакомо чуть поджаты были губы
скульптурного и чувственного рта...
Знакомая задумчивость сквозила
в наклоне головы, чуть длинноносой,
спокойствием дышала вся фигурка,
хоть полная, но стройная, её.
Замедленно листки перебирая,
На миг, быть может, вырвавшись из рая,
м е н я о н а н е в и д е л а,
но я-то - я не могла родимой не признать, -
и крупных рук, сжимающих тетрадь,
и этой кофты симпатичный цвет -
лиловым отдающий фиолет;
бровей цыганских воровской излом,
таящий взгляд,
что заменял мне - дом...
Секунда долго в космосе летит.
... Совсем другая женщина глядит.
Та ж кофта. И волос похожа масть...
Но встреча прекратилась. Сорвалась.
И ты была здесь - мимолётный сон,
Навеянный былой весны письмом.
"Я здесь! - не хрип, а всхлип застрял в груди. -
Хорошая моя! Не уходи!
Сердечная моя! Не покидай!
Живи! Дыши! Продлить свиданье дай!..."
Космическое видеописьмо.
И - рукопись.
И - слёзы.
В о т и в с ё .
6 марта 2007 года
Фотоархив; иллюстрации


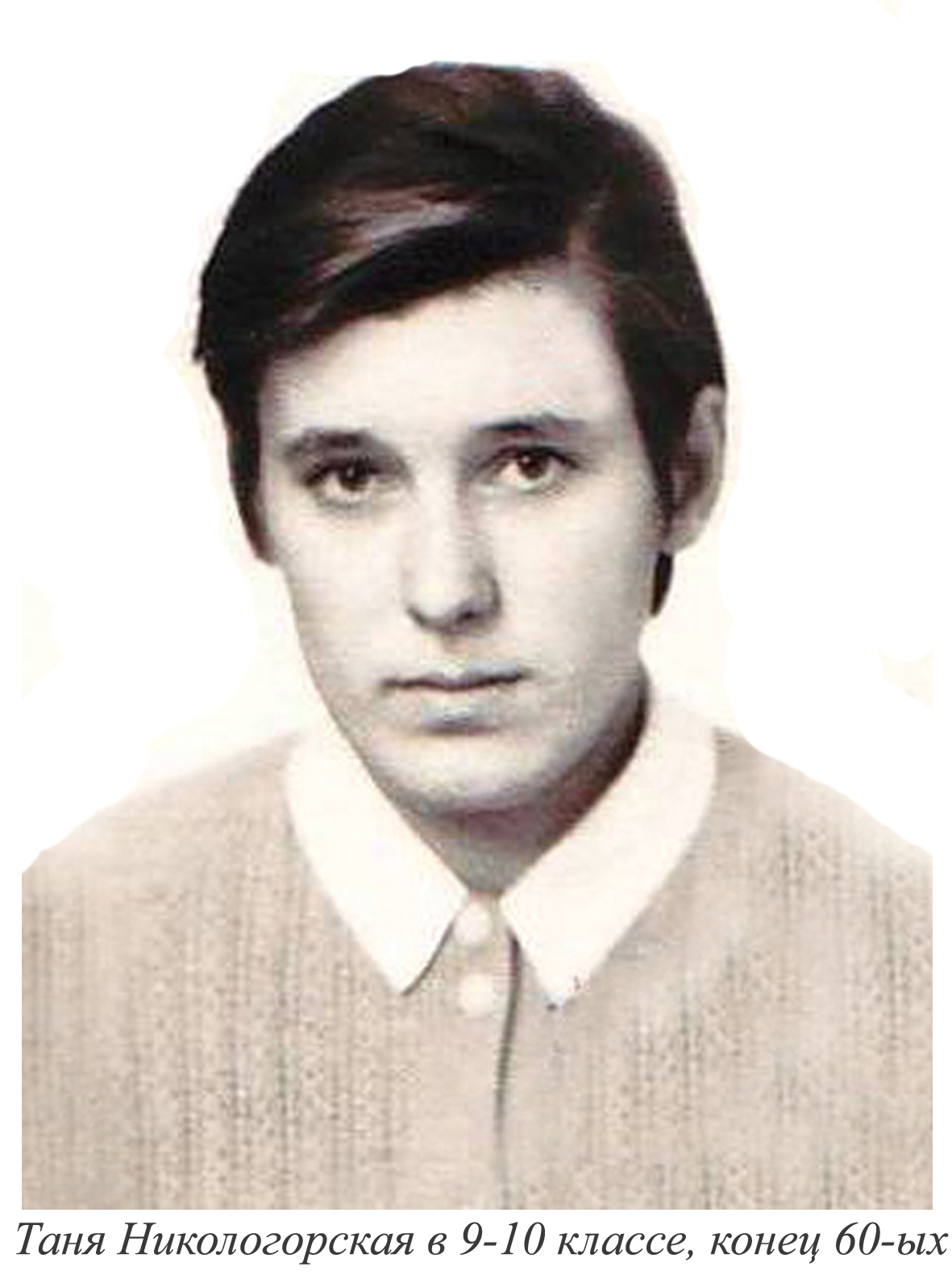







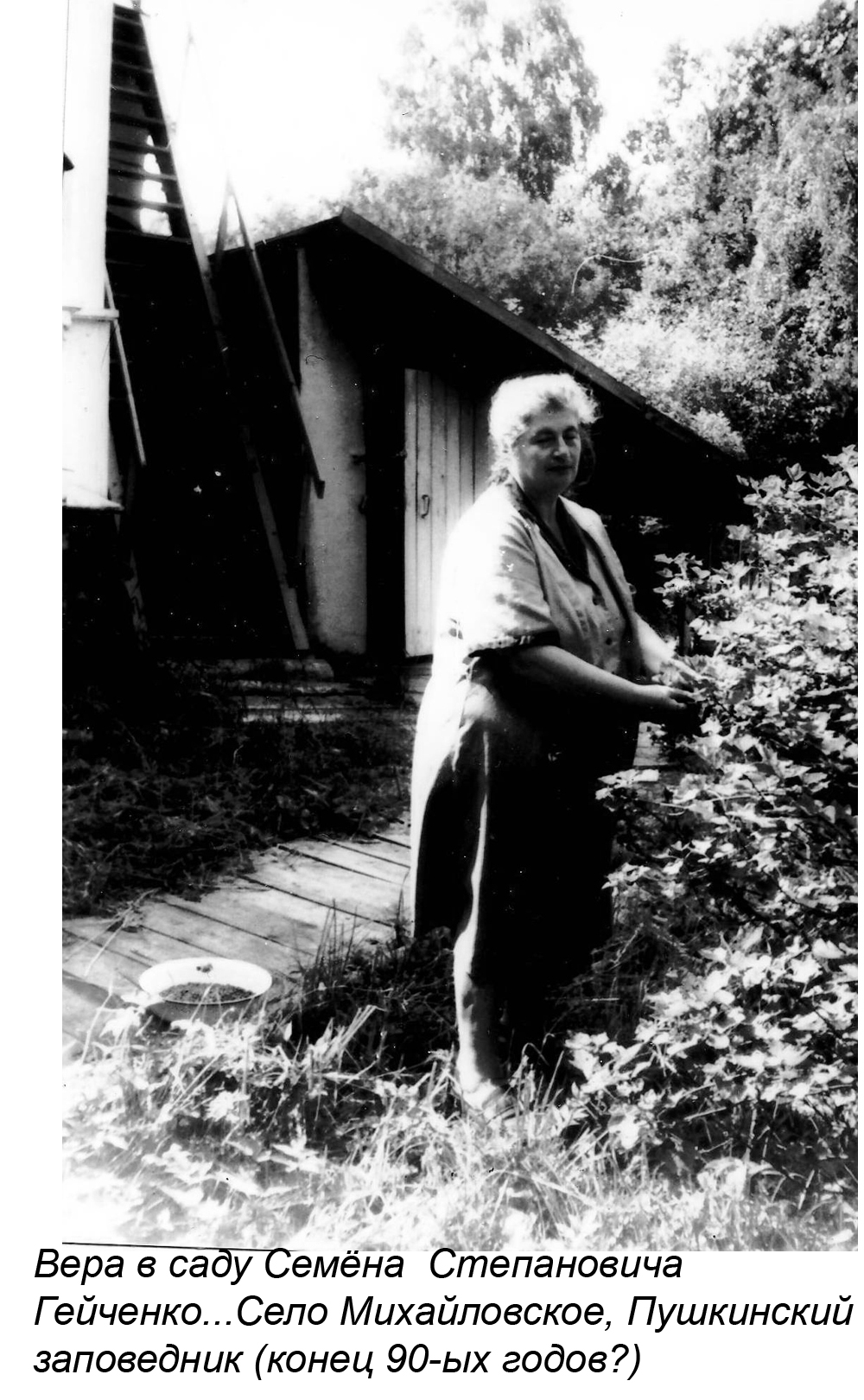

ОГЛАВЛЕНИЕ
Вступительное слово...........................................................................
Татьяна Никологорская. По лунному лучу. Стихи..................................
В.В. Малева. Краткая биография...........................................................
Вера Малева. Друг вечный. Письма.......................................................
Татьяна Никологорская. Стихи и проза
Напевала мне мама ..........................................
Книга юности ....................................................
Сашкина любовь................................................
Сила добра (эссе).............................
Фотоархив; иллюстрации .................................................................................
В двухтомник включены любительские рисунки, а также фотоархив Т.Никологорской, факсимиле Веры Малевой, другой иллюстративный материал.
________
Проект оформления обложки: Т. А. Никологорская
Техническая помощь: И. М. Рыбакова, Т.С. Прохорова
Дизайн обложки: Ирина Трипольская
На первой странице обложки - братский корпус (бывшая гостиница), Святогорский монастырь.
На последней странице обложки - Успенский собор монастыря. Посёлок Пушкинские Горы, Псковская область
п
|
|
Связаться с программистом сайта.