Лев Веселов
Трилогия
Книга перавя
СВОИМ КУРСОМ
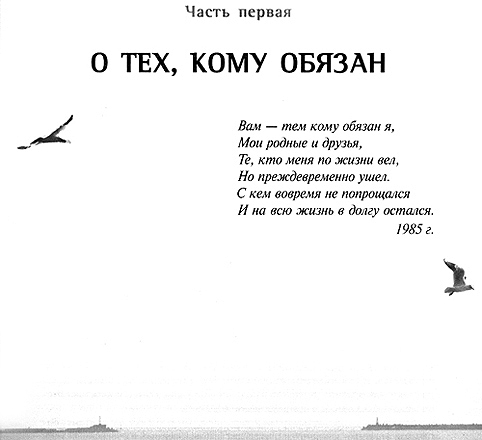

Мать и отец 1937 г.

Отец Михаил Веселов 1941 г.

Курская дуга. Молодая эскадрилья перед вылетом.
Правый из стоящих вне строя летчиков - отчим.

Отчим Александр Васильевич 1945 г.

С братом Робертом (слева)

Ейск 1937 г. Отчим в первом ряду в центре

Тетя Лида (справа)