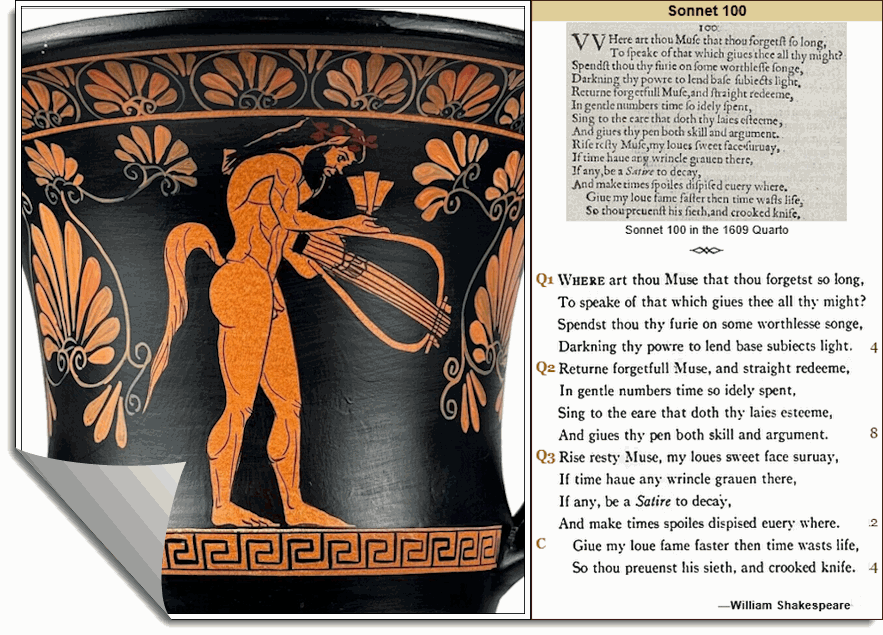
Сонеты 64, 63, 100 Уильям Шекспир,-
перевод Свами Ранинанда
****************
Poster 2024 © Swami Runinanda: "William
Shakespeare Sonnets 64, 63, 100"
William Shakespeare Sonnet 64 "When I have
seen by time's fell hand defaced"
William Shakespeare Sonnet 63 "Aghast my
love shall be, as I am now"
William Shakespeare Sonnet 100 "Where art thou,
Muse, that thou forget'st so long"
Poster 2024 © Attic red-figure psykter
"Reveling satyrs" (ca 490-480 B.C.) | The British Museum
______________________
"Towards old age,
which, in an opposite way to childhood, walks near the gates of life,
Shakespeare is less uniformly tender. He is no less disposed to laugh than weep
over the fatuity of years that bring the philosophizing mind, but no true grasp
of life. One thinks of Polonius, Falstaff, and Shallow and of such doddering old
lords as Montague and Capulet, and as Leonato and his brother Antonio in Much
Ado. It may be surprising to find Falstaff in this list; but I suppose,
notwithstanding his creator's and our delight in him, Falstaff, as a
philosopher, stands confuted; his duel with time is a drawn battle, won by the
latter through sheer waiting. There are numerous examples of solitary and
garrulous age in the plays totally unconnected with their motivation, but
introduced for picturesque or choric effect, detached and wandering fragments of
humanity that drift across the scene and shake their feeble heads".
"К преклонному возрасту в противоположность от детства, которое приближено к
вратам жизни, Шекспир становится менее нежным. Он, тем не менее склонен
смеяться, чем плакать, над бессмысленностью прожитых лет, которые приносят
философствующий ум, только не дают подлинного понимания жизни. Невольно
вспоминаются Полоний, Фальстаф и Шаллоу, а также такие дряхлые старые лорды, как
Монтекки и Капулетти, Леонато и его брат Антонио из пьесы "Много шума из ничего"
(Much Ado About Nothing). Может показаться удивительным найти Фальстафа в этом
списке, но я полагаю, что, несмотря на восхищение его создателем и наше
восхищение им, Фальстаф как философ остался под сомнением; его поединок со
временем - это ничья, выигранная последним исключительно благодаря выжиданию. В
пьесах есть множество образцов (действующих лиц) одинокого и словоохотливого
возраста, совершенно не связанных с их мотивациями, но введённых (автором) для
создания колоритного или рутинного эффекта, обособленных и блуждающих фрагментов
человеческого рода, что бродят по сцене и раскачивают своими хилыми головами".
Пайер, Джеймс Френсис (J. F. Pyre 1871-1934) "Shakespeare's Pathos and Portrayal
of Old Age"
В свете сменяющейся парадигмы
сонетов Шекспира, некогда необоснованная совершенная замена Джона Керриган (John
Kerrigan) слова "howers" в строке 1 сонета 5 Quarto 1609 года на "hours",
оказалась нелепым шагом, хотя аналогичную замену можно было увидеть в содержании
сонета 63.
Столь опрометчивая замена слов из сборника сонетов Quarto 1609
года привела к удручающим последствиям, снижению литературно-художественных
качеств сонетов в результате "шекспировская" строка потеряла первоначальное
звучание и, как следствие отчасти свою аутентичность, - во-первых.
Во-вторых, везде в тексте сонетов, где автор использовал необычайно яркие и
колоритные поэтические образы из древнегреческой мифологии, вопреки авторскому
замыслу они оказались утерянными из-за замены слов в последующих изданиях после
Quarto 1609 года. Такая беспечность необдуманных замен слов способствовала
созданию "вакуума метафорической образов" в текстах сонетах, таким образом
лишившего слова-символы право на существование, вследствие чего,
сюжетообразующие "аллюзии", подсказывающие об существовании ранжировании в
иерархии космизма богов древнегреческих мифов, были до основания выкорчеваны.
В конечном счёте подавляющее большинство сонетов претерпело ущербную
трансформацию, где аллегорические образы, изначально заложенные автором в
слова-символы и несущие основной мифологический контекст были выхолощены до
основания.
Тогда стало очевидным, что большая часть критиков и
исследователей продолжавших предлагать версии интерпретаций сонетов, порой
"вытянутые за уши", занимались их "подгонкой" под хронологию событий Шекспира из
Стратфорд-на-Эйвоне (Stratford-Upon-Avon), сына ремесленника-перчаточника. Но
главное, они не брали в расчёт и поэтому исключали прямое влияние философских
идей Платона, в качестве базисной идеи в широком смысле слова при написании
Шекспиром всех 154-х сонетов.
Столь упрощенческий подход исследователей
не оставил ни одного шанса на существование в сонетах Шекспира аллегорических
образов искомых слов-символов, как образов иерархии богов "платоновского"
космизма, следуя сюжетам и принципам древнегреческой мифологии.
Таким
образом, исключая сложившиеся взаимосвязи мифологических образов слов-символов
из оригинального текста первого издания Quarto 1609 года, что никоим образом не
принимало в расчёт значимость "платоновской теургии", к примеру, в рамках
использования "Идеи Красоты" в качестве философского концепта в сонетах.
В
данном случае, при ранжировании иерархии богов "платоновского" космизма из
"Закона Герметизма" Платона, главенствующий постулат которого гласил: "Что
вверху, то и в низу". При ознакомлении с философским наследием Платона, дошедшим
до наших времён, буквально всё изложенное, из предлагаемых методологий его
трактатов сводилось к реализации практик и ритуалов теургии.
Именно, поэтому
в "пост платоновской теургии" философским воззрениям Платона выделялось особое,
главенствующее значение, именно поэтому, он исторически утвердился, как
основоположник "теургии".
Краткая справка.
Теургия, "Theurgy" -
это последовательное выполнение ритуалов и обрядов, целью которых является
восстановление трансцендентной сущности с помощью повторного прохождения
Божественных "сигнатур" сквозь слои бытия. Образование было важнейшим условием
для понимания схем "природы вещей", как составляющая часть представлений
мироздания, предложенных Аристотелем, Платоном и Пифагором, а также халдейскими
и дельфийскими оракулами. Работа теурга проходит по правилу "подобное к
подобному": на материальном уровне с помощью физических символов и магии; на
более высоком уровне - с ментальными и чисто духовными практиками и мистицизмом.
Начиная с нахождения Божественного в материи, теург в конечном счете достигает
уровня, где внутренняя божественная часть души объединяется с Богом. Ямвлих
считал, что теургия является подражанием богам, и в своей главной работе "О
Египетских Мистериях", где он охарактеризовал теургические ритуалы, как
"ритуализованную космогонию", которая наделяет воплощённые души божественной
ответственностью за созидание и сохранение космоса.
"Вне всякого
сомнения, отроду не читавшие "Одиссею" и "Илиаду" Гомера, а также не имеющие
никакого понятия о содержании древнегреческого эпоса лишались возможности
оценить ключевое значение слов-символов "шекспировского" языка иносказания. По
непонятной причине подавляющее большинство критиков и исследователей
проигнорировали вполне очевидную характерную особенность пьес и сонетов
Шекспира, где слова-символы изначально должны были служить, согласно замыслу
автора, не только в качестве языка иносказания, но и идентификационными
маркерами некоторых персон, с которыми бард был лично знаком, непосредственно из
окружения поэта и драматурга" 2024 © Свами Ранинанда.
В-третьих, замена
редакторами последующих изданий слов, взятых из первого издания Quarto 1609
года, свела на нет первоначальный замысел поэта, и как следствие, ключевую роль
образов в общей сюжетной линии, буквально всех без исключения 154-х сонетов. К
примеру, необычайно колоритного образа "seasons", "сезонов года";
персонифицированных "hovers", "парящих" Хорай, красочно украшенных девушек, юных
дочерей Зевса и Фемиды, парящих в хороводе над землёй и олицетворяющих "времена
года", взятых из древнегреческой мифа в качестве "аллюзии", а также описанных
Гесиодом и Гомером. (Hesiod: "Works and Days" pp. 74-75), (Homeric "Hymn to
Aphrodite" 6. Line 5-13).
"Не все редакторы вносили изменения, но
Керриган (Kerrigan) делал это без объяснения причин. Когда такое слово, как
"sinne", заменяется на "sin", или "atchive" на "achievement", или "howers" на
"hours", значение не меняется, просто меняется написание. Но когда слова
изменяются по смыслу, особенно когда оригинал полон смысла, где любое изменение
в лучшем случае самонадеянность, в худшем случае потеря аутентичности". (Hyden
Edward Rolling. "A New Variorum Edition of Shakespeare. The Sonnets"
Philadelphia 1944).
Исследуя образ "cruel knife", "жестокого клинка"
сонета 63 строки 10: "Against confounding age's cruel knife", который можно
сопоставить с образом "crooked knife", "кривого клинка" сонета 100
обнаруживается следующее, что автор подразумевал один из атрибутов "бога
Времени". Персонифицированного "бога Времени", получившего олицетворение
одновременно в старом седовласом Хроносе и юном Кайросе, согласно содержанию
сонета 126. Именно, при рассмотрении этого образа сонета обнаруживается
ранжирование божеств во всеобщей космогонии мифологических образов.
Таким
образом, следуя сюжету древнегреческого мифа, рассматриваемый образ "cruel
knife", "жестокого клинка" а равной степени можно соотнести как к Кайросу, так и
Хроносу, ибо оба обладали им в качестве атрибута.
Рассуждая в подобном ключе,
не стоит забывать, что согласно сюжету мифа, "hovers", "парящие" Хораи из сонета
5 Уильяма Шекспира полностью подчинялись Хроносу, однако, но по истечению
годового цикла им поглощались, но зато в заступающем году возрождались для
повторения цикла.
В ходе семантического анализа обнаружилось, что
слово-образ, раскрывающий необычайно красивый образ из греческого мифа
персонифицированных "hovers", "парящих" Хорай из Quarto 1609 года как в сонете
5, так и сонете 63 был заменён одним из редакторов на безликое слово "hours",
"часы", обозначающее единицу измерения времени, составляющую 60 минут, либо в
упрощённом виде "циферблат" часов.
Рассматриваемая, по моему мнению
неуместная замена на "hours", "часы" в контексте сонетов 5 и 63, по мере
углубления в содержание первоисточника, а именно, в "Гимн Афродите" и
"Орфический Гимн Хораям" показала полную несостоятельность действий, связанных с
заменой слов из первого издания оригинала Quarto 1609 года. Сам факт, подобной
замены слов-символов, имеющих столь ёмкую образную нагрузку текста оригинала
Quarto 1609 года, был отмечен критиками в ходе архивных дискуссий, как
существенная утрата образов древнегреческого мифа, нашедших своё место в сонетах
поэта и драматурга "на все времена".
Профетические слова поэта и
драматурга Бена Джонсона современника Шекспира, написанные в предисловии к
"Первому Фолио", полностью сбылись, там говорилось о том, что Шекспир "was not
of an age, but for all time", "был человеком не одной эпохи, а на все времена".
Реализовавшееся эпитафия Бена Джонсона является убедительным свидетельством
неизгладимого влияния литературного наследия поэта, включающего сонеты и пьесы
Шекспира на последующее развитие мировой литературы и драматургии.
В
качестве примера могу привести строки 9-14 сонета 62, служащие подтверждением
изначального авторского замысла, заложенного в основу сборника сонетов, что в
них использовались античные поэтические образы и философские идеи. На самом
деле, в своих сонетах Шекспир следовал традиционным классическим приёмам и
мифологическим образам античной поэзии. Включая идеи и постулаты из трудов
стоиков, основоположников древнегреческой философии.
Недопонимание
сонетов Шекспира большинством критиков для меня служило маркером, указывающим на
"белые пятна" в их исследовательской работе, в тоже время подсказывающим мне на
что обратить особое внимание, как исследователю.
Как, к примеру, парадокс,
возникший в ходе исследований, который формулировался, так: "за тебя, как против
самого себя", "for you as against yourself" в группе сонетов 88-93 Шекспира,
обнаруженный критиком Джеральдом Хаммондом, где как оказалось, были заложены
философские воззрения трактата "Идея Красоты" Платона, как идейно философский
фундамент, на основе которого были созданы сонеты последовательности "Прекрасная
молодёжь", "Fair Youth". (Gerald Hammond. "The Reader and Shakespeare's Young
Man Sonnets". Totowa, N. J.: Barnes and Noble Books, 1981, pp. 243-247).
Краткая справка.
Платон (родился в 428 / 427 до н. э., умер в 348 / 347
до н. э., Афины) - древнегреческий философ, ученик Сократа (ок. 470-399 до
н.э.), учитель Аристотеля (384-322 до н.э.) и основатель Академии. Он наиболее
известен как автор философских трудов в беспрецедентном влиянии на последующую
философскую мысль, является одной из главных фигур классической античности.
Опираясь на подтверждающие показы Сократа о том, что те, кого считают экспертами
в этических вопросах, не необходимым пониманием для хорошей человеческой жизни,
Платон выдвинул идею о том, что их ошибки происходят из-за того, что они не
взаимодействуют должным образом с классом категорий, которые он назвал формами,
главными примерами которых являются: Справедливость, Красота и Равенство. В то
время как другие мыслители - и сам Платон в некоторых отрывках - использовали
этот термин безо какого-либо точного построенного обоснования, Платон в ходе
своей карьеры стал уделять особое внимание этим категориям. По его замыслу, они
были доступны не только чувствам, но и разуму, и они были наиболее важными
составляющими реальности, лежащими в основе существования воспринимаемого мира и
придающими ему ту понятность, которой он обладает. В метафизике Платон
предполагал систематическое, рациональное рассмотрение форм и их взаимосвязей,
начиная с наиболее фундаментальной из них (Блага, или Единого).
В области
этики и моральной психологии он развил точку зрения, что хорошая жизнь требует
не только определённого рода знаний (как предполагал Сократ), но и привыкания к
здоровым эмоциональным реакциям и, следовательно, гармонии между тремя частями
души (согласно Платону, разумом, духом и аппетитом). Его работы также содержат
дискуссии по эстетике, политической философии, теологии, космологии,
эпистемологии и философии языка. Его школа поощряла исследования не только в
узком философском понимании, но и в широком спектре направлений, которые теперь
можно назвать математическими или научными.
Впрочем, в ходе исследования
сонеты 62-65, входящие в малую группу вызвали нескрываемый интерес по ряду
причин. Например, в сонете 62 при прочтении строк 12-14 в глаза бросался один из
постулатов методологии трактата "Идея Красоты" Платона, но оказавшийся
незамеченным большинством критиков и исследователей.
Сонет 65, завершающий
группу 62-65, привёл к интересным находкам, которые убедительно подтверждали
выводы, декларированные мной в предыдущих эссе, особенно в "Сонет 5 Уильяма
Шекспира - отвергнутый образ мифа. Shakespeare's Sonnet 5, is a rejected image
from the myth".
- "Дайте мне точку опоры, и Я переверну весть мир!", -
некогда сказал древнегреческий геометр и философ Архимед Сиракузский.
Морфосемантический анализ строк 3-4 сонета 65, предоставил очередную "точку
опоры" в унисон сменяющейся парадигмы сонетов Шекспира, полностью подтверждающий
об верном направлении предыдущих исследований.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 65, 3-4
This text is distributed for nonprofit and educational use only.
"How with this rage shall beauty hold a plea
Whose action is no stronger than
a flower?"
William Shakespeare Sonnet 65, 3-4.
"Как с
таким неистовством могла красоту удерживать мольба (моя)
Чьё воздействие не
сильнее, нежели цветка? (увы)"
Уильям
Шекспир, Сонет 65, 3-4.
(Литературный перевод Свами
Ранинанда 24.08.2024).
Исследуя природу происхождения
"шекспировского" образа "flower", "цветка" строк 3-4 сонета 65, согласно сюжету,
древнегреческого мифа "seasons", "сезоны года"; "hovers", "парящие" Хораи
(Horai, Horae) охраняли врата Олимпа и способствовали плодородию земли, а также
объединяли звезды и созвездия на ночном небе в положении привычном для
человеческого взора при помощи незримых цепей.
Но, следуя подобной логике
"вещей в себе" исходящей от античных времён, на основе современной науки
астрофизики в качестве этих аллегорических "цепей" выступает - гравитация, сила
притяжения небесных тел, а также "тёмная материя".
Впрочем, в "шекспировские"
времена, такой термин, как гравитация" уже вошёл в обиход, именно поэтому поэт
смело использовал новое, тогда модное слово в строке 8 сонета 49: "Shall reasons
find of settled gravity", "Должны были найтись резоны устоявшейся гравитации".
Однако, следуя сюжету мифа, динамика смены "seasons", "сезонов года"
аллегорически описывалась, как красивый ритуальный танец юных девушек - Хорай
(Horai, Horae). Вне всякого сомнения, это даёт полное объяснение почему Уильям
Шекспир в риторическом вопросе строк 3-4 сонета 65 использовал в сравнительной
аллегории образ "flower" "цветка", ибо он являлся атрибутом "hovers", "парящих"
Хорай. Их поэтический образ красиво вписывался и соответствовал описаниям мифа,
где им были приписаны способности главенства над всем растущим, как отвечающих
за установление основных характеристик внешнего вида и качеств разносезонных
цветов и плодов, таких, как аромат и оттенки благоухания, особенности формы
цветов и соцветий; а также продолжительность сохранности их свежести. К примеру,
в "Трудах и днях" Гесиода (Hesiod) "Works and Days" светловолосая Хорай вместе с
Харитой и Петой венчали Пандору - обладательницу "всех даров" гирляндами цветов.
(Hesiod: "Works and Days" pp. 74-75).
Хотя, этот аргумент вполне подходит
к таким сонетам Шекспира, как: 18, 35, 54,109, 130, говоря об
"шекспировском" образе "rose", "розы", характеризуя связь этого образа с
поэтического образа "seasons", "сезонов года"; "hovers", "парящих" Хорай (Horai,
Horae), согласно тексту оригинала "howers" в Quarto 1609. К примеру, в строке 5
сонета 54, дискутируя об обороте речи: "canker bloomes", "цветение червоточины"
критик Эдмонд Малоун (Edmond Malone) дал следующее определение: "canker
bloomes", "шиповник или червоточная роза": - Confer! "Much Ado About Nothing",
I, III, line 28): "I had rather be a canker bloomes in a hedge than a rose in
his grace", "Я предпочёл бы быть шиповником в живой изгороди, чем розой в его
милости". Из чего следует и вполне объясняет семантику, применяемого образа
"canker", "червоточины" в сонетах Шекспира, который по смыслу равнозначен широко
распространённому в "елизаветинскую" эпоху обороту "canker bloomes", "шиповник
или червоточная роза". ("Shakespeare, William. Sonnets, from the quarto of 1609,
with variorum readings and commentary". Ed. Raymond MacDonald Alden. Boston:
Houghton Mifflin, 1916).
Помимо этого, во втором четверостишии сонета 64
можно обнаружить предчувствие поэта об возможной гибели юного Саутгемптона в
боевой операции, подобной "Гравелинскому сражению", где автор в строках 12-14
сонета 64 с помощью "аллюзии" намекал читателю на причину, столь мрачного
предчувствия. Профетический склад ума барда, ему подсказывал, что исторические
события знакового характера будут обязательно повторяться с непреклонно
математической точностью, согласно нумерологии дат прошедших событий, через
некие промежутки времени.
Прямое обращение Шекспира в строках 9-14 сонета
62 отчасти намёком раскрывало главную творческую идею, описанную в виде
мотивации, благодаря которой были написаны сонеты. Навеянные античными образами
из древнегреческой мифологии, где бард написал об себе в строках 10 и 13-14
сонета 62: "chopp'd with tann'd antiquity", "нашинкованного с помощью "патины
античности", "thee (myself) that... I praise painting my age with beauty of thy
days", "тебя (самого), что Я восхвалял расписывал мой век с красотой твоих дней
(спустя)". Примечательно, что строки 9-14 сонета 62 очередной раз доказали
приверженность поэта к неуклонному следованию философским воззрениям "Идеи
Красоты" Платона.
- Confer!
________________
© Swami
Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 62, 9-14
This text is
distributed for nonprofit and educational use only.
"But when my
glass shows me myself indeed
Beated and chopp'd with tann'd antiquity,
Mine own self-love quite contrary I read
Self so self-loving were iniquity,
T' is thee (myself) that for myself I praise,
Painting my age with beauty of
thy days" (62, 9-14).
William Shakespeare Sonnet 62,
9-14.
"Но когда моё зеркало показало меня самого, действительно,
Побитого и нашинкованного с помощью патины античности,
Моим родным
себялюбием, вполне напротив - Я считаю,
Себя настолько Я полюбил, что
являлось несправедливостью,
Тогда тебя (самого), что Я расхваливал, то для
себя,
Расписывая мой век с красотою твоих дней (спустя)" (62, 9-14).
Уильям Шекспир, Сонет 62, 9-14.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 12.08.2024).
(Примечание от автора эссе: авторское
сокращение начала строки 13 сонета 62: "T' is thee", могло означать "Then is
thee", что переводится как, "Тогда тебя", помимо этого мной были зафиксированы и
сохранены знаки препинания, согласно тексту, оригинала первого издания Quarto
1609 года, только ради единственной цели для сохранения авторского замысла,
утерянного после замены некоторых слов и знаков пунктуации, исказившими
изначальный замысел первого издания оригинального Quarto 1609 года).
(Shakespeare, William (1609). Shake-speares Sonnets: Never Before Imprinted.
London: Thomas Thorpe).
Признаю тот факт, что создавшееся
положение дел с сонетами Шекспира предоставило мне весомый повод для мотивации,
предусматривающей основательно пересмотреть все существующие версии путём
создания новой научной парадигмы, а также написания обновлённой редакции сонетов
5 и 63, которые в новой редакции получили поэтическое звучание приблизительно в
духе изначального авторского замысла, заложенного в первое издание оригинального
текста Quarto 1609 года Томаса Торпа.
Хочу напомнить читателю, что замена
слова "howers" из Quarto 1609 года на слово "hours", "часы" редактором Джоном
Керриган в таких сонетах как 5 и 63 сводила на нет красивый космогонический
образ "парящих" Хорай, танцующих в хороводе ритуального танца юных богинь,
дочерей Зевса и Фемиды.
Поначалу утеря первоначального, настолько яркого и
выразительного мифологического образа на первый взгляд могло показаться
безвозвратно невосполнимым. И, тогда во мне стало закипать подспудное
негодование, которое по прошествию времени дошло до апогея, что мотивировало
меня на восстановление утерянных образов из сонетов Шекспира. Были найдены
весомые аргументы, в виде оригинальных текстов "Гимнов Хораям", которые
опровергали замену слов текста оригинала из Quarto 1609 года, отражающих образы
персонифицированных "seasons", "сезонов года"; "hovers", "парящих" Хорай (Horai,
Horae). Последующее написание очерка "Сонет 5 Уильяма Шекспира - отвергнутый
образ мифа. Shakespeare's Sonnet 5, is a rejected image from the myth"
знаменовало время окончательного развенчания не нужной замены слова "howers" из
Quarto 1609 года на слово "hours", "часы", принижающей литературно
художественные качества сонетов.
Таким образом, последствия замены были
аннулированы путём полной реконструкции ключевого поэтического образа
персонифицированных "seasons", "сезонов года" или "hovers", "парящих" Хорай,
первоначально заложенных Шекспиром при написании сонета 5. Знаменуя, что время
восстановления справедливости - наконец наступило!
Для сопоставления с
обновлённой версией перевода, учитывающую смену парадигмы, привожу фрагменты
сонета 63 предыдущего перевода, датированного 2021-м годом, в котором показана
версия с заменой слов редактора Джона Керриган.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 63, 1-6, 9-14
This text is
distributed for nonprofit and educational use only.
"Against my
love shall be, as I am now,
With time's injurious hand crushed and o'erworn;
When hours have drained his blood, and filled his brow
With lines and
wrinkles; when his youthful morn
Hath travailed on to age's steepy night,
And all those beauties whereof now he 's king" (63, 1-6).
William Shakespeare Sonnet 63, 1-6.
"Наперекор моей любви так
будет, как я теперь (чтоб),
От времени руки ранящей, раздавлен и изношен был;
Когда часы иссушат его кровь, и наполнят его лоб
В линиях морщин; когда его
юношеского утра пыл
Пройдёт в страданиях до поры ночи сонной (на напасть),
И все красавицы те, чьих он король сейчас (всласть)" (63, 1-6).
Уильям Шекспир, Сонет 63, 1-6.
(Литературный перевод Свами Ранинанда
24.11.2021).
"For such a time do I now fortify
Against
confounding age's cruel knife,
That he shall never cut from memory
My
sweet love's beauty, though my lover's life.
His beauty shall in these black
lines be seen,
And they shall live, and he in them still green" (63, 9-14).
William Shakespeare Sonnet 63, 9-14.
"Для времени такого, Я
укреплял (свой бастион)
Против жестокого ножа запутанных времён,
Которым
он никогда не будет вырезан из памяти сих
Моей любви сладкой красотой - мой
фаворит жизни (как укор)
Его красота видна будет в чёрных линиях этих,
И
жить они будут, и он незрелый в них до тех пор" (63, 9-14).
Уильям Шекспир, Сонет 63, 9-14.
(Литературный
перевод Свами Ранинанда 24.11.2021).
Хочу обратить особое внимание
на поэтический образ "The little Love-God "Маленького Бога Любви" строки 1
анакреонтического сонета 154, где Купидон - являясь "богом любви" предстаёт
перед читателем во всей красе, следуя тексту мифа. Этот запоминающееся
действующее лицо древнегреческой мифологии, которое нашло своё отражение, как
мифологический образ в анакреонтической паре сонетов 153 и 154, где автор строго
следуя поэтической традиции анакреонтической поэзии, которая воспевала радость
беззаботной жизни и чувственных наслаждений под звуки лиры в культуре эллинизма
древней Греции.
"Сам факт написания Уильямом Шекспиром сонетов 153 и 154
не только подтверждал его приверженность следовать классическим канонам
анакреонтической поэзии, но и сонеты 153 и 154 служили базисом на который
опиралась вся структура ранжирования поэтических образов космогонии
персонифицированных богов из греческих мифов в сонетах всего сборника. Где
поэтические образы космогонии богов были выделены "курсивом с заглавной буквы" в
оригинальном тексте Quarto 1609 года как, к примеру, образ "Satire", "Сатира"
сонета 100". 2024 © Свами Ранинанда.
При морфосемантическом анализе
слов-символов сонета 100 оригинального текста первого издания Quarto 1609 года
видно, что поэтические образы "Muse", "Музы", а также "Time", "Времени" были
написаны с заглавной буквы. Этот факт указывал на то, что автор сонета
рассматривал образы "Muse", "Музы" и "Time", "Времени" прежде всего, как
персонифицированные образы во всеобщей космогонии ранжирования богов Олимпа.
Именно, это подтверждает содержание строки 14 сонета 100, где поэт обратился к
Музе: "So thou prevent'st his scythe and crooked knife", "Так чтоб предотвратила
удар его косой, либо кривым клинком", Описание автора полностью соответствует
атрибутам персонифицированного "бога Времени" Хроноса из мифа, будь то "коса"
или "кривой клинок", то есть серп, следуя описанию мифа.
Эти же атрибуты
читатель может встретить в строке 2 сонета 126: "Dost hold Time's fickle glass,
his sickle, hour", "Удерживая Времени переменчивое зеркало, его серп,
циферблат".
- Confer!
________________
© Swami
Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by
William Shakespeare Sonnet 100, 1-4, 9-14
This text is distributed for
nonprofit and educational use only.
"Where art thou, Muse, that
thou forget'st so long
To speak of that which gives thee all thy might?
Spend'st thou thy fury on some worthless song,
Dark'ning thy power to lend
base subjects light?" (100, 1-4).
William
Shakespeare Sonnet 100, 1-4.
"Где мастерство твоё Муза, какому
разучилась так давно, (впустую)
Говоришь о том, кто дарует тебе - твою мощь?
(опять)
Растрачиваешь ты свою ярость на некую никчёмную песню,
Омрачающую
твою силу, одалживая основы тематик освещать?" (100, 1-4).
Уильям Шекспир, Сонет 100, 1-4.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 04.08.2024).
"Rise, resty Muse, my love's sweet
face survey,
If Time have any wrinkle graven there;
If any, be a Satire to
decay,
And make Time's spoils despised every where.
Give my love fame
faster than Time wastes life;
So thou prevent'st his scythe and crooked
knife" (100, 9-14).
William Shakespeare Sonnet 100,
9-14.
"Поднимись отдохнувшая Муза, милый облик обозри моей любви,
Коль Время располагает каждой морщинкой, высеченной там,
Если любой, то к
распаду им - Сатиром быть,
И сделай добычу Времени повсюду быть презираемой.
(при том),
Даруй моей любви быстрее славу, чем Время транжирит впустую жизнь,
Так чтоб предотвратила удар его косой, либо кривым клинком" (100, 9-14).
Уильям Шекспир, Сонет 100, 9-14.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 04.08.2024).
В культуре эллинизма, равно как в
поэзии, литературе, живописи и скульптуре Купидону не было выделено значимое
положение. В сложной иерархии ранжирования божеств античного "политеизма", во
всеобщем ранжировании богов Олимпа Купидон занимал далеко не первые места.
Вполне понятно, поэтому, в эпоху эллинизма не было принято строить храмы,
посвящённые "богу любви" Купидону. Несмотря на то, что образ "бога любви"
Купидона получил широкое распространение в культуре и искусстве эпохи
Возрождения древней Греции.
По мере исследования становилось очевидным
то, что Шекспир в своих сонетах принял за основу космогонию образов
мифологических богов древней Греции в качестве первостепенной идеи, включив туда
же философские воззрения Платона из его труда "Идея Красоты", а также
философские идеи Лукреция из трактата "О природе вещей" (лат. "De rerum
natura").
Рассматривая применение Шекспиром в сонетах постулатов "Идеи
Красоты" Платона, критик Джордж Уиндхэм, единственный из всех критиков выделил
характерные особенности, в качестве декларации её постулатов, к примеру, при
рассмотрении строки 3 сонета 31: "And there reigns Love, and all Love's loving
parts", "И там царствует Любовь, и Любви нежности во всех частях", которая
указывала на исходный первоисточник: "Where love reigns, there's no need for
laws", "Где царствует любовь, там нет надобности в законах", или "Там, где царит
любовь - нет законов". Этот постулат, позднее ставший крылатой фразой, был
изложен Платоном в I веке д. н. э., как один из основных тезисов философского
трактата "Идеи Красоты".
Не зависимо от этого, дальнейшие исследования и
семантический анализ сонета 53 прямо указывал на то, что сонет 53 особенно его
начальные строки были написаны при непосредственном влиянии идей Платона из его
трактата "Симпозиум".
"Персонифицированные главные герои и действующие
лица мифов обогатили сонеты необычайно яркими и выразительными образами,
переплетая образы космогонии древнегреческих мифов с образами современников
Уильяма Шекспира, окружавших его в повседневной жизни. Таким образом, космогония
персонифицированных божеств из мифов, словно черновая клаузура, наложившись на
средневековье получила новое воплощение через конкретные персоны из окружения
поэта, которые получили идентификационные маркеры с помощью аллегорических
образов слов-символов текста оригинала из сборника Quarto 1609 года". 2024 (C)
Свами Ранинанда.
Краткая справка.
Персонификация (от лат.
"persona", "лицо" + "facio", "делаю олицетворение"), прозопопея (от др.-греч.
"лицо; личность" + "делать"), антропопатизм (др.-греч. "человек" + "чувство") -
представление природных явлений и сил, объектов, отвлечённых понятий в образе
действующих лиц, в том числе человека, или признание за ними человеческих
свойств; приписывание свойств человеческой психики предметам и явлениям
реального или вымышленного мира: животным, растениям и явлениям природы.
Персонификация распространена в мифологии, религии, сказках, притчах, магии и
культах, художественной и другой литературе. Олицетворение было распространено в
поэзии разных эпох и народов, от фольклорной лирики до стихотворных произведений
поэтов-романтиков и претенциозной поэзии. Понятие персонификация употребляется в
философии, социологии, психологии (например, "персонификация сознания").
Психологически в основе персонификации лежит механизм проекции, который в
социологии описывается как "стремление индивида переложить на кого-либо вину за
события или ситуации, вызывающие фрустрацию"
Пришло время научному
сообществу окончательно и бесповоротно принять космогонию и ранжирование божеств
из древнегреческой мифологии, а также главных героев в лице мифологических
богов, которые изначально заполняли строки сонетов Уильяма Шекспира, согласно
первоначальному замыслу. Поэтому образы космогоний мифологии в контексте сонетов
Шекспира необходимо воспринимать в расширенном ракурсе, не вырывая с корнем из
контекста сонетов.
Как, к примеру, персонифицированные образы соответствующих
строк в сонетах 5, 153 и 154, или рассматриваемом в рамках этого эссе - 63-м.
Уильям Шекспир использовал поэтический образ Купидона с горячим тавро в сонетах
Quarto 1609 не случайно, так как пришло время нового переосмысления этого
поэтического образа. В тоже время, следуя "от обратного", предлагаю читателю
обратиться к сюжету одной из первых пьес, с действующим героем Купидоном,
стреляющим пламенеющими стрелами с "огнём любви", как во фрагменте пьесы
Шекспира "Сон в летнюю ночь" акт 2, сцена 1.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare "A Midsummer Night's Dream" Act II, Scene I, line 161-180
This text is distributed for nonprofit and educational use only.
ACT II, SCENE I. A wood near Athens.
Enter, from opposite sides, a Fairy, and
PUCK
OBERON
That very time I saw, but thou couldst not,
Flying
between the cold moon and the earth,
Cupid all arm'd: a certain aim he took
At a fair vestal throned by the west,
And loosed his love-shaft smartly from
his bow,
As it should pierce a hundred thousand hearts;
But I might see
young Cupid's fiery shaft
Quench'd in the chaste beams of the watery moon,
And the imperial votaress passed on,
In maiden meditation, fancy-free.
Yet
mark'd I where the bolt of Cupid fell:
It fell upon a little western flower,
Before milk-white, now purple with love's wound,
And maidens call it
love-in-idleness.
Fetch me that flower; the herb I shew'd thee once:
The
juice of it on sleeping eye-lids laid
Will make or man or woman madly dote
Upon the next live creature that it sees.
Fetch me this herb; and be thou
here again
Ere the leviathan can swim a league.
William
Shakespeare "A Midsummer Night's Dream" Act II, Scene I, line 161-180.
АКТ II, СЦЕНА I. Лес недалеко от Афин.
Входят с противоположных сторон Фея и
ПАК
Что каждый раз, когда я видел, но ты не мог,
Летящего между
холодной луной и землёй,
Во всеоружии Купидона. Конкретную цель он брал
На
прекрасную весталку, сидящую на троне запада,
И ловко выпускал свою любовную
стрелу из лука
Как и должна пронзать до сто тысячи сердец.
Но Я смог
увидеть стрелу огненную юного Купидона
Угасающей луны водянистой в
целомудренных лучах,
И императорская приверженка прошла дальше
В девичьей
медитации, свободной от фантазий.
И все же, Я заметил, куда попала стрела
Купидона.
Она упала на маленький западный цветок,
Ранее молочно-белый,
теперь пурпурный от любовной раны,
И девицы называют это "любовью от
безделья".
Принеси мне этот цветок, траву, которую я тебе показывал однажды.
Сок из него на веки закрытые спящего положенный
Заставит или мужчину, или
женщину безумно обожать
Последующее существо живое, каким оно покажется.
Принеси мне эту траву; и будь здесь снова
Прежде чем левиафан сможет проплыть
лигу.
Уильям Шекспир "Сон в летнюю ночь"
акт 2, сцена 1, 161-180.
(Литературный перевод Свами
Ранинанда 31.08.2022).
При ознакомлении с содержанием пьесы, и
после расшифровки подстрочника, раскрывается многое, что скрывалось в тексте
строки: ""Yet mark'd I where the bolt of Cupid fell: It fell upon a little
western flower, before milk-white, now purple with love's wound", "И все же, Я
заметил, куда попала стрела Купидона. Она упала на маленький западный цветок
ранее молочно-белый, теперь пурпурный от любовной раны". Вполне очевидно, что
речь идёт о женском влагалище и половом акте, который девицы называют "любовью
от безделья", где оборот речи "bolt of Cupid" является мужским половым органом.
Далее, согласно тексту пьесы следует мистический обряд с применением магического
рецепта, чтобы "заставить мужчину, либо женщину безумно обожать последующее
живое существо, какое после попадания стрелы Купидона "при встрече окажется
первым на глаза".
Краткая справка.
В классической мифологии Рима
Купидон (лат. "Cupido", что означает "страсть любви, страстное желание") - это
бог эротической любви, сексуального влечения и страсти. Его часто изображали,
как сына богини любви Венеры и бога войны Марса. Он также известен на латыни,
как "Amor". Его греческий предшественник - Эрос. Впрочем, в классическом
греческом искусстве Эрос обычно изображался, как стройный крылатый юноша, в
эллинистический период его значительно чаще изображали пухлым мальчиком. Через
некоторое время на его изображениях стали изображать атрибуты Купидона: лук и
стрелы в колчане.
Стоит отметить, что отношение к Шекспиру у коллег по
перу было необычайно чутко-чувствительное. К примеру, Самуэль Даниель знал об
причастности юного Саутгемптона в передачи "шекспировских" фрагментов пьес
Джорджу Чапмену, после очередного публичного вульгарного скандала. Вполне
вероятно, что Шекспир в сонете 112 его описал, так: "vulgar scandal stamp'd upon
my brow", "вульгарный скандал штамповался на моём челе", и значительно позже
после смерти Шекспиру публично объявил, что адресовал свои строки, именно ему.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами
Ранинанда
________________
Original text by Samuel Daniel "Delia"
Sonnet XXXVI
This text is distributed for nonprofit and educational use
only.
(Delia. Contayning certayne Sonnets: vvith the complaint of
Rosamond.
At London, Printed by I. C. for Simon Waterson, dwelling in Paules
Church-yard
at the signe of the Crowne, 1592).
Vnburied in these lines reseru'd in purenes;
These shall intombe those eyes,
that haue redeem'd
Mee from the vulgar, thee from all obscurenes.
Although
my carefull accents neuer mou'd thee;
Yet count it no disgrace that I haue
lou'd thee.
Samuel Daniel "Delia" Sonnet XXXVI.
Погребён в этих строках, оставленных в чистой (теме);
Они остались в гробнице
тех глаз, что искупили (спустя)
Меня от вульгарности, тебя от безвестности -
всеми.
Хотя, мои аккуратные акценты, никогда не трогали тебя;
И всё же, не
сочти их за бесчестье, что Я любил - тебя.
Самуэль
Даниель "Делия" Сонет 36, 10 -14.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 30.07.2024).
(Примечание от автора эссе: оборот речи
"елизаветинской" эпохи "neuer mou'd thee" = "never moved thee", поэтому читается
так: "никогда не трогали тебя"). (Samuel Daniel "Delia" Sonnet XXXVI).
Стоит отметить, что несмотря на напряжённые отношения между Шекспиром и Джоном
Флетчером, он дописал после смерти Шекспира пьесу "Два Благородных Родича" ("The
Two Noble Kinsmen"). Несколько позже Флетчер поставил эту пьесу на подмостках
театра "Блэкфрайарз" ("Blackfriars Theatres"), но пытался всеми силами убедить
зрителей и критиков в том, что он автор, а Уильям Шекспир, который уже почил
был, всего лишь соавтором.
Этот факт предоставил внятное объяснение двойному
авторству пьесы "Два Благородных Родича", однако, главная идея пьесы изначально
принадлежала Шекспиру, так как раскрывала детали взаимоотношений поэта с юным
Саутгемптоном, адресатом сонетов, поэтому Джон Флетчер мог претендовать, только
на соавторство.
Впрочем, некогда мне на глаза попалась обложка вышеуказанной
пьесы датированная 1634-м годом, где основным автором был напечатан Джон
Флетчер, а после приставки "and" указан сам Шекспир, что меня порядком удивило.
Насколько было известно, что Джон Флетчер сочинял пьесы в соавторстве с
Фрэнсисом Бомонтом или Филипом Мессинджером, но у обоих он всегда был написан в
афишах анонса пьес, как соавтор вторым.
Характерно, что Флетчер умер
неожиданно и по странной причине во время лондонской чумы 1625 года, унёсшей
жизни приблизительно 40 000 человек; именно, тогда архивариус Джон Обри (John
Aubrey) подтвердил в своих записях, что Флетчер "...по весьма странной причине
задержался в городе, охваченном эпидемией чёрной чумы, только для того, чтобы
"снять мерку для костюма" в то время, как большая часть жителей спасалась
бегством за пределами города".
_________
Original text
_________
When I haue seene by times fell hand defaced
The rich
proud cost of outvvorne buried age,
When sometime loftie towers I see downe
rased,
And brasse eternall slaue to mortall rage.
When I haue seene the
hungry Ocean gaine
Aduantage on the Kingdome of the shoare,
And the firme
soile win of the watry maine,
Increasing store with losse, and losse with
store.
When I haue seene such interchange of state,
Or state it selfe
confounded, to decay,
Ruine hath taught me thus to ruminate
That Time will
come and take my loue away.
This thought is as a death which cannot choose
But weepe to haue, that which it feares to loose.
- William
Shakespeare Sonnet 64, text Quarto 1609.
(Shakespeare, William (1609).
Shake-speares Sonnets: Never Before Imprinted. London: Thomas Thorpe).
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
When I have seen by time's fell hand defaced
The rich-proud cost of outworn
buried age,
When sometime lofty towers I see down-razed,
And brass eternal
slave to mortal rage.
When I have seen the hungry Ocean gain
Advantage on
the Kingdom of the shore,
And the firm soil win of the watery main,
Increasing store with loss and loss with store,
When I have seen such
interchange of state,
Or state itself confounded to decay,
Ruin hath
taught me thus to ruminate
That Time will come and take my love away.
This
thought is as a death, which cannot choose
But weep to have that which it
fears to lose.
- William Shakespeare Sonnet 64
____________________________
2024 © Литературный перевод Свами Ранинанда,
Уильям Шекспир Сонет 64
*
*
*
Когда Я увидел, как обезобразила Времени опустившаяся рука
Обильно
горделивые расходы изношенного погребаемого века,
Когда высокомерные башни
когда-то Я узрел рухнувшими вниз,
И бронзы извечно рабыни ярости смертельной
(лязг и визг).
Когда Я увидел изголодавшийся Океан, достигший (такого)
Преимущества для Королевства берегового,
И твёрдая почва, выигравшая у
водного - в основном,
Наращивала сохранённое с утерянным и потерю с запасом.
Когда такую развязку состояния мне лицезреть (невмочь),
Либо положение само
собой запуталось - упадком,
Разрушенное научило меня, подобным образом
размышлять,
Что Время ещё придёт и заберёт мою любовь прочь.
Такая мысль,
как смерть, какую невозможно выбрать,
Но зато оплакивающая владеет тем, кого
боится потерять.
*
*
*
Copyright © 2024 Komarov A. S. All rights reserved
Swami Runinanda
Jerusalem 04.08.2024
_________________________________
* confound -
путать, запутать, смутить, ввести в замешательство;
(synonym
baffle, дефлектор синонима)
(формальные глаголы) (глагольные формы) (идиомы);
запутались они / смутились вы; запутать кого-то, чтобы
запутать и удивить кого-то.
Примеры:
The sudden rise in share prices
has confounded economists.
Внезапный рост цен на акции смутил экономистов.
Запутать кого-то / что-то, чтобы доказать, что кто-то / что-то
не так, чтобы
обмануть ожидания.
Примеры:
She confounded her critics and proved she
could do the job.
Она смутила своих критиков и доказала, что справится с
работой.
The rise in share prices confounded expectations.
Рост цен на
акции смутил ожидания.
Запутать кого-то (старомодный оборот речи), чтобы
победить врага;
используется, дабы показать, что вы злитесь на что-то / на
кого-то.
Оксфордский Большой словарь в 12-ти томах изд. 1928 (Oxford
English Dictionary, OED).
Сонет 64 - один из 154 сонетов, написанных английским драматургом и поэтом
Уильямом Шекспиром. Этот сонет входит в последовательность сонетов "Прекрасная
молодёжь", "Fair Youth" сонеты (1-126), в котором поэт выражал свою
приверженность любви к молодому человеку.
При этом, осознанно принимая, что
потеря отношений с "молодым человеком, адресатом сонета неизбежна, а беспощадное
"время ещё придёт и заберёт его любовь прочь". Конечно, такие реалии, могли
подвигнуть поэта на реализацию воплощения "Идеальной Красоты" юноши в своих
произведениях, следуя философским воззрениям труда Платона "Идея Красоты".
Краткий обзор сонета 64.
Вступительное четверостишие начинается с
персонификации времени, разрушителя великих творений, созданных человеком, это
могущество стихий, с которой человек не в состоянии справиться. Второе
четверостишие описывает безнадёжную борьбу между морем и сушей. В последнем
четверостишии повествующий взял эти уроки жизни, применив к своей собственной
ситуации, понимая, что смерть неизбежна, и придёт время, и заберёт его любовь.
Заключительное двустишие в отличие от обычных поучительных притч, подводящих
черту вышенаписанному, автор сравнил свою мысли об возможной потере фаворита "со
смертью, какую не может выбрать", однако "оплакивая обладает тем, чего боится
потерять".
Структура построения сонета 64.
Сонет 64 - это
английский или шекспировский сонет. Английский сонет состоит из трех
четверостиший, за которыми следует заключительное рифмованное двустишие. Она
соответствует типичной схеме рифмовки формы ABAB CDCD EFEF GG и написана
пятистопным ямбом, разновидностью поэтического размера, основанного на пяти
парах метрически слабых / сильных слоговых позиций. Четвертая строка
представляет собой правильный пятистопный ямб:
# / # /
# / # / # /
"И бронзы извечной рабыни
ярости смертельной (лязг и визг)" (64, 4).
/ = иктус, метрически сильная
слоговая позиция. # = nonictus.
В седьмой строке как первый иктус сдвинут
вправо (в результате получается четырёхпозиционная фигура, # # / /, иногда
называемая малой ионной), так и разворот средней линии.
Это создает несколько
необычный случай, когда три ударных слога подряд функционируют как три иктуса, а
не один из них, как обычно понижается до "nonictus", "не иктуса".
#
# / / / # # / # /
"И
твёрдая почва, выигравшая у водного - в основном" (64, 7).
Размер требует
нескольких вариантов произношения: "towers", "башни" в третьей строке состоят из
одного слога, а "watery", "водяного" в седьмой строке - как два.
Критический анализ сонета 64.
Критик Т. У. Болдуин объяснил основное
содержание сонета 64 таким образом, дабы повествующий бард поведал об своём
понимании времени и безысходности борьбе с ним, что он "cannot withstand", "не в
состоянии противостоять". (T. W. Baldwin, "On the Literary Genetics of
Shakespeare's Poems and Sonnets", p. 279).
В сонете также развёрнута идея
об повторяющемся витке противоборства моря и суши, хотя с этим были согласны не
все критики. В 64-м сонете приводятся случаи неизбежных разрушений временем,
чтобы утешить адресата сонета, а также сделал "emphasis on the inescapable fact
of mutability", "акцент на неизбежном факте изменчивости".
Критик Эмили
Стокард поддержала и добавила, что из-за неизбежности окончания жизни и прихода
смерти, следуя воззрениям "Идеи Красоты" Платона, где Шекспир не желает
расставаться с юношей в духовном мире, сформировав олицетворение бессмертного
идеала его красоты там. Поэтому невзирая на вполне вероятную разлуку он
оставляет за собой право соединения двух сердец в одно. Таким образом, Шекспир
может чувствовать себя спокойнее, потому что любовь всей его жизни не будет
отнята у него непроизвольно по истечению времени.
Критик Эмили Стокард
отметила, что в содержании сонета 64 "автор не уточнил, что больше расстроило
его - потеря жизни юноши или потеря любви". (Emily Stockard, "Patterns of
Consolation in Shakespeare's Sonnets 1-126", Studies in Philology, Vol. 94, No.
4 (1997): p. 480).
Большинство критиков помещают сонет 64 в
последовательность, согласно нумерации или группу сонетов 62-74. Оба критика и
Т.У. Болдуин, и Эмили Стокард сошлись во мнении, что эти сонеты схожи по
тематике и тону. (Emily Stockard, "Patterns of Consolation in Shakespeare's
Sonnets 1-126" Studies in Philology, Vol. 94, No. 4 (1997): p. 479).
Невзирая на это, другой критик, Брентс Стирлинг (Brents Stirling), с этим не
согласился. Он поместил сонет 64 в группу сонетов, содержащую только сонеты
63-68. Согласно его утверждению, эти сонеты следует объединить, потому что они
единственные, в которых говорится о предмете стихотворения в третьем лице, а не
во втором. (Brents Stirling, "A Shakespeare Sonnet Group", PMLA, Vol. 75, No. 4
(1960): p. 348).
Сонет 64 очень похож на сонет 60 Уильяма Шекспира, где
содержание обоих сонетов сосредоточено на идеализации самого Времени, "time as
the destroyer", "времени, как разрушителя". (Atkins CD, editor. "Shakespeare's
Sonnets With Three Hundred Years of Commentary". Cranbury (NJ): Rosemont
Publishing & Printing Corp.; 2007, pp. 175-177).
В своей книге Хелен
Вендлер "Искусство сонетов Шекспира" (Helen Vendler "The Art of Shakespeare's
Sonnets") описала сонет 64, как написанный в состоянии ужаса и "unprotected
vulnerability", "незащищённой уязвимости". К примеру, ужас повествующего поэта
проявляется в такой формулировке, как в строке 8: "Increasing store with loss
and loss with store", "Наращивая сохранённое с утерянным и потерю с запасом".
Вендлер утверждала, что в этих строках поэт подчеркнул, что "Loss wins in both
cases. It is of course impossible to increase abundance with loss, and equally
impossible to increase loss by adding abundance to it", "Потери выигрывают в
обоих случаях. Конечно же, невозможно увеличить изобилие за счёт потерь, как и в
равной степени невозможно увеличить потери, добавив к ним изобилие". (Vendler H.
"The Art of Shakespeare's Sonnets". Cambridge (MA): Harvard University Press;
1997, pp. 300-302).
Критик Аткинс также согласился с тем, что в сонете
64, особенно в строке 12, повествующий отразил состояние страха: "That Time will
come and take my love away", "Придёт время и заберёт мою любовь прочь". В своём
труде "Shakespeare's Sonnets", "Шекспировские Сонеты" Аткинс утверждал, что
смысл этой строки ясен: "after seeing all these other ruins, I think about your
eventual ruin", "увидев все эти другие руины, Я думаю о вашем возможном упадке".
(Atkins CD, editor. "Shakespeare's Sonnets With Three Hundred Years of
Commentary". Cranbury (NJ): Rosemont Publishing & Printing Corp.; 2007, pp.
175-177).
Критик Хелен Вендлер назвала строку 12 "collapse into
monosyllabic truth", "погружением в односложную истину", and its dismayed
adolescent simplicity of rhythm, this line feels like a death", "из-за пугающей
юношеской простоты ритма эта строка ощущается, подобно смерти". (Vendler H. "The
Art of Shakespeare's Sonnets". Cambridge (MA): Harvard University Press; 1997,
pp. 300-302).
Критик Стивен Бут подтвердил, что в строке 13 неясно:
"death, the nearest potential antecedent, cannot choose, but it cannot weep or
fear either; thought makes better sense, but it is the thinker who does the
weeping and fearing", "смерть, ближайший потенциальный предшественник,
невозможно выбрать её, но её не возможно оплакивать также бояться; мысль
обладает большим смыслом, но именно мыслитель, кто плачет и боится".
Критик
Вендлер утверждала, что в последних трёх строках сонета: "... "natural" pattern
of unreversed ruin "defeats" the intellectual mastery-by-chiasmus, as the
concept of gradual leakage comes to represent personal loss. Time takes love
away, a thought is like a death, one weeps to have what one fears to lose....
Having while fearing to lose is already a form of losing", "... "природный"
паттерн необратимого разрушения (Временем) "побеждает" интеллектуальное
господство через хиазм, поскольку концепция постепенной утери становится
символом личной потери. Время уносит любовь, мысль о этом, подобна смерти,
человек плачет, чтобы продолжить обладать тем, чего боится потерять... Обладать,
но при этом боясь потерять, - именно, в этом проявляясь, как некая форма
проигрыша". (Vendler H. "The Art of Shakespeare's Sonnets". Cambridge (MA):
Harvard University Press; 1997, pp. 300-302).
В целом, оба критика и
Стивен Бут, и Хелен Вендлер сошлись во мнении, что в последних трёх строках
сонета мысль, повествующего плачет из-за страха потерять свою любовь, в конечном
счёте осознавая, что он не в состоянии избежать поглощения временем, и время
придёт и заберёт долой его любовь.
Влияние заключительного двустишия
на основной контекст сонета 64.
"This thought is as a death, which cannot
choose
But weep to have that which it fears to lose" (64, 13-14).
"Такая мысль, как смерть, какую невозможно выбрать,
Но зато оплакивая
обладает тем, чего боится потерять" (64, 13-14).
В 64-м сонете Уильям
Шекспир "scrutinizes the idea of losing his loved one to Time, and views Time as
an agent of Death", "тщательно исследовал идею и предложил её в аллегорических
образах, как нежданную потерю любимого человека, вследствие, мимолётности
времени, где такая категория, как "время" рассматривалась им, как фактор
очевидного прихода смерти". (Grimshaw, James. "Amphibiology in Shakespeare's
Sonnet 64". Shakespeare Quarterly, Vol. 25 No. 1 (Winter 1974), pp. 127-129).
Отсылка Шекспира, как автора на "outworn buried age", "изношенный погребённый
век" демонстрирует идею о том, что его любимый человек будет поглощён или
изношен временем и старостью. (Hecht, Anthony; Evans, Gwynne Blakemore. "The
Sonnets". Cambridge University Press, April 2006).
По мнению критика
Хелен Вендлер, в начале может показаться, что "the first twelve lines [are] a
long defense - by thinking about the end of inanimate things - against thinking
about the death of a living person", "первые двенадцать строк - это долгая
защита - размышление о конце неодушевлённых вещей - против размышлений о смерти
живого человека". (Vendler, Helen. "The Art of Shakespeare's Sonnets". Belknap
Press of Harvard University Press, 1 November 1999, pp. 299-302).
Тогда
критик Джеймс Гримшоу (James Grimshaw) анализируя последние две строчки отметил,
что Шекспир заменил слово "which", "который" на "death", "смерть" во двустишии,
делая в содержании сонета, значительно больший акцент на теме смерти, как
непреодолимой силе. (Grimshaw, James. "Amphibiology in Shakespeare's Sonnet 64".
Shakespeare Quarterly, Vol. 25 No. 1 (Winter 1974), pp. 127-129),
Однако,
любовь, которую осознанно понимающий поэт может в любое время потерять, в данном
случае, может подразумеваться, как один из трёх исходов: это, реальная смерть
его фаворита, или смерть самого поэта, который был старше на 17-ть лет адресата
сонетов, либо просто окончательная размолвка, вследствие несостоятельности
отношений с юным фаворитом. (Hecht, Anthony; Evans, Gwynne Blakemore. "The
Sonnets". Cambridge University Press, April 2006).
Критик Хелен Вендлер
интерпретировала предполагаемую смерть, как смерть своего фаворита, и двустишие
справедливо показывает, что Шекспир искренне беспокоился об этом, таким образом,
он отчётливо выделил характер заключительных строк установив зависимость от
предыдущих двенадцати строк. "Страх Шекспира перед всемогуществом времени и
наступающей старости отнимающими у него, восхваляемого им фаворита, кажется,
тревожит поэта больше всего на свете, чем все остальные события, которые он
описывал на протяжении всего 64-го сонета, хотя поэт искренне отчаивается при
мысли о том, что он может потерять юношу и ему не под силу предотвратить это
событие", - резюмировала критик Хелен Вендлер.
(Vendler, Helen. "The Art of
Shakespeare's Sonnets. Belknap Press of Harvard University Press, 1 November
1999, pp. 299-302).
Анализ фонетики связующей строки: "Ruin hath
taught me thus to ruminate" в логике сонета 64.
Сонет 64 - это
великолепный пример того, почему люди всегда говорят избегать ошибок прошлого,
то есть: "You should never let your past interfere with your present", "Вы
никогда не должны позволять своему прошлому влиять на ваше настоящее". В связи с
чем, критик Баррет, рассматривая психолого-логические аспекты сонета 64 выразила
свою мысль, так: "... provides an example of past-oriented natural habitats that
might interfere with the productive considerations of the future", "...
представляет собой пример природной среды обитания, ориентированной на прошлое,
которая может оказать влияние с учётом продуктивных соображений на будущее".
(Barret J.K. "So written to aftertimes": Renaissance England's Poetics of
Futurity. Annarbor (MI): ProQuest LLC.; 2008, pp. 13-16).
Другими
словами, следуя логике размышлений критика Баррет, и взяв их, как разумную
основу в последовательности аргументаций есть резон принять "основную
причинно-следственную связь", предложенную автором заключительных строк
умозрительно сопоставив с историческими событиями происходившими в Англии,
свидетелем которых оказавшись, ибо поэтическая строка начиналась с повторяющейся
фразы: "When I have seen...", "Когда Я увидел...".
При анализе описываемых поэтом
аллегорических образов в строках 1-8 сонета 64, можно выразить примерно, так:
"... since the narrating poet allows the past to take over his thoughts, he
cannot think positively about the future because of the complements, habits or
inclinations of the past tense, namely, they can constrain his actions in the
future", "...поскольку повествующий поэт позволяет прошлому завладеть его
мыслями, он не может позитивно думать о будущем из-за комплексов, привычек или
склонностей, присущих прошедшим временам, именно, они могут сковывать его
действия в будущем".
И поэтому, подобная характерная особенность сонета
64 выделяет его среди остальных, проецируя основные отличительные рамки
"причинно-следственных связей" в хронологии характерных исторических событий,
своей роли в этих событиях, взятых за основу сонета 64 , проецируя свои жизнь
поэт, как будто накладывает на события юного Саутгемптона в текстах оригинала
Quarto 1609 года при сравнительном анализе с другими сонетами последовательности
"Прекрасная молодёжь", "Fair Youth" сонеты 1-126, посвящённые юноше (примечание
от автора эссе).
Вполне вероятно, но в заключительных строках сонета 64,
поэт намекал на то, что "молодой человек" в то время подвергался риску быть
убитым. Критик Баррет утверждала, что фонетическая игра между "ruminate",
"размышлять" и "ruinate", "разрушать", согласно её слов, "underscore a
relationship inherent in the poem's logic", "подчеркнула указав на взаимосвязь,
присущую логике" поэтических строк сонета 64, примерно так: "Each quatrain of
the sonnet open with the same construction - "When I have seen" - yet these
statements are never met with a summational "then", so the temporal ambiguity
the phrase creates the remains unresolved: Does the speaker gesture toward
repeated past actions ("in the instances that I have seen") or forward to a
causational limit point ("once I have seen")?", "Каждое четверостишие сонета
начинается с одной и той же конструкции - "Когда я увидел", - тем не менее, эти
утверждения никогда не сопровождались соединительным предлогом "тогда", поэтому
временная двусмысленность, которую создает фраза, остаётся неразрешённой до
логического конца: указывает ли, повествующий на повторяющиеся прошлые действия
("в тех случаях, которые Я увидел"), или же, когда он указывает на предельную
точку причинно-следственной связи ("однажды Я увидел")?".
Когда мы читаем
строки, относящиеся к волнам и берегу: "at times the waves are winning against
the shore, and then at times the shore is winning against the waves", "временами
волны одерживают победу над берегом, а иногда берег одерживает победу над
волнами", - повествующий говорит почти уверенным тоном и решительно настроен не
позволять времени управлять своей жизнью. Хотя, когда он начинает говорить, что
Время заберёт мою любовь, мы начинаем ощущать неуверенность в говорящем. Эта
неуверенность повествующего была детерминировано изложена критиком Баррет, когда
она утверждала, что: "The sonnet registers temporal matters in personal terms;
the couplet never corrects the poem's grammatically obscured engagement with
time, but instead introduces a paralyzing temporal collapse: the present moment
becomes overwhelmed by an anticipation of future loss - an extreme version of "I
miss you already" .... The ruin / ruminate pairing bespeaks a suspicion of an
imagined time spent looking back", "Сонет описывает временные проблемы в личном
плане; двустишие никогда не исправляет грамматически неясную связь стихотворения
со временем, но вместо этого вводит парализующий временной коллапс: настоящий
момент захлёстывает предчувствие будущей потери - как окончательная версия: "Я
уже скучаю по тебе"... Сочетание слов: "ruin", "разрушение" / "ruminate",
"размышление" наводит на очевидную мысль об воображаемом времени, проведённом в
оглядывании назад". (Barret
J.K. "So written to aftertimes: Renaissance England's Poetics of Futurity".
Annarbor (MI): ProQuest LLC.; 2008, pp. 13-16).
Морфосемантический
анализ сонета 64.
Анализируя сюжетную связь сонета 64 с сонетом 65, можно
получить подтверждение, что заключительные строки сонета 64 дали импульс в
рассмотрении Времени в контексте сонета 65, где приведённые философские
категории обрели конкретную коннотацию.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 64, 11-14
This text is distributed for nonprofit and educational use only.
"Ruin hath taught me thus to ruminate
That Time will come and take my love
away.
This thought is as a death, which cannot choose
But weep to have
that which it fears to lose" (64, 11-14).
William
Shakespeare Sonnet 64, 11-14.
"Разрушенное научило меня, подобным
образом размышлять,
Что Время ещё придёт и заберёт мою любовь прочь.
Такая
мысль, как смерть, какую невозможно выбрать,
Но зато оплакивающая владеет
тем, кого боится потерять" (64, 11-14).
Уильям Шекспир, Сонет 64, 11-14.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 04.08.2024).
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 65, 1-4, 9-14
This text is
distributed for nonprofit and educational use only.
"Since brass,
nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o'er-sways their
power,
How with this rage shall beauty hold a plea
Whose action is no
stronger than a flower?" (65, 1-4).
William Shakespeare Sonnet 65, 1-4.
"Начиная с бронзы, ни камень,
ни бескрайнее море, ни земля,
Но зато скорбная смертность излишне влиятельной
их силы,
Как с таким неистовством могла красоту удерживать мольба (моя),
Чьё воздействие не сильнее, нежели цветка? (увы)" (65, 1-4).
Уильям Шекспир, Сонет 65, 1-4.
(Литературный перевод Свами
Ранинанда 24.08.2024).
"O fearful meditation! where, alack,
Shall Time's best jewel from Time's chest lie hid?
Or what strong hand can
hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?
O, none,
unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine
bright" (65, 9-14).
William Shakespeare
Sonnet 65, 9-14.
"О, испугавшееся размышленье! Увы, там, где
(давно)
Времени лучшее сокровище из сундука Времени лежащее скрытно?
Или
какая сильная рука вспять сможет его скорую поступь удержать?
Либо кто его
избалованную красоту - мог запрещать?
О, никто, разве что настоящее чудо,
имеющее могущество,
Чтоб в чёрных чернилах всё же, моя любовь могла ярко
засиять" (65, 9-14).
Уильям Шекспир, Сонет 65, 9-14.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 24.08.2024).
(Примечание от автора эссе: исследователям творчества великого драматурга не
следует путать характерные для "елизаветинской" эпохи особенности авторского
почерка при написании Шекспиром таких сокращений слов, как "o'er", которое
является сокращением слова "over", "слишком" или "излишне" (o'er = over). К
примеру, в строке 2 сонета 65: "But sad mortality o'er-sways their power", "Но
зато скорбная смертность излишне влиятельного их могущества". (William
Shakespeare Sonnet 65, line 2 from text Quarto 1609). (Shakespeare, William
(1609). Shake-speares Sonnets: Never Before Imprinted. London: Thomas Thorpe).
Также очень часто в пьесах применялось слово "ere" - "прежде", "прежде чем".
Например, слово "ere" можно встретить в пьесе Шекспира "Два Благородных Родича":
"Speak't in a womans key: like such a woman as any of us three; weepe you
faile", "Не говорите в женском ключе: подобно настолько женщине как любая из нас
троих; порыдайте, прежде чем вы потерпите неудачу"). (William Shakespeare and
John Fletcher. "Two Noble Kinsmen". Act 1. Scene 1. Athens. Before a temple).
* la rage (фр. яз.) -
мн. rages
бешенство, гнев, ярость, исступление,
неистовство.
Именно, в строках 3-4 сонета 65 поэт философски
вопрошает в риторической форме, упоминая свою мольбу предыдущего сонета 64:
"with this rage shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a
flower?", "как с таким неистовством могла красоту удерживать мольба (моя), чьё
воздействие не сильнее, нежели цветка?".
Характерный приём, когда Шекспир
описывал персонифицированное божество Времени, получившее олицетворение в
бородатом Хроносе и юном Кайросе, где автор объединил их в одном поэтическом
образе в двух риторических вопросах строк 11-12 сонета 65:
"Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty
can forbid?" (65, 11-12).
"Или какая сильная рука вспять сможет его
скорую поступь удержать?
Либо кто его избалованную красоту - мог запрещать?"
(65, 11-12).
При переводе сонетов Шекспира, содержащие литературные
образы мифа ни в коем случае нельзя вырывать из исторического контекста, либо
утрировать аллегорические образы древнегреческого мифа, принимая во внимание
космогонию ранжирования богов и детали сюжета, от которых отталкивался автор,
использовавший эти образы в качестве "аллюзии".
В ходе семантического
анализа, рассматривая первое четверостишие сонета 64, хочу напомнить, что оно
представляет собой многосложное предложение, состоящее из нескольких
односложных. При этом, "шекспировское" правило "двух строк" вполне может
послужить в подспорье при семантическом анализе.
Например, это связано с
тем, что в строках 1-2 сонета 64, автор повествует об эпохе, в которую он жил и
творил, но в строках 3-4 он переносится при помощи своего воображения в
бронзовый век, взяв за основу при "Одиссеи" и "Илиады" Гомера в переводе на
английский Голдинга, согласно мнению, большей части критиков. Дело в том, что
автор буквально подсказывает об этой характерной особенности своего написания
при помощи, таких слов-ключей строк 3-4, как "sometime", "когда-то" и "brass",
"бронзы". Которые перемещают читателя во время событий последней Троянской
Войны. (Несколько ниже будут представлены аргументы из первоисточника, ремарка
от автора эссе).
Впрочем, подавляющее большинство переводчиков и
исследователей творческого наследия поэта и драматурга, по не вполне понятной
причине не смогли разобраться со столь элементарными подсказками авторского
подстрочника. Исследователям было свойственно обходить своим вниманием "острые
углы", либо запутываясь упрощать задачу, что в конечном счёте их сбивало с
толку.
Недопонимание подстрочника сонета 64 исследователями, некогда
скрываемого под аллегорическими образами, что в итоге приводило к выхолащиванию
основных образов, к примеру, из древнегреческой мифологии, либо авторских идей,
заложенных в качестве базиса при написании.
К ним можно отнести, как
философские воззрения Платона, Аристотеля и Эпикура, а также образы, взятые из
"Одиссеи" и "Илиады" Гомера в переводе на английский Артуром Голдингом, которые
Шекспиром широко использовал при написании сонетов в качестве "аллюзии".
"When I have seen by time's fell hand defaced
The rich-proud cost of outworn
buried age,
When sometime lofty towers I see down-razed,
And brass eternal
slave to mortal rage" (64, 1-4).
"Когда Я увидел, как обезобразила
Времени опустившаяся рука
Обильно горделивые расходы изношенного погребаемого
века,
Когда высокомерные башни когда-то Я узрел рухнувшими вниз,
И бронзы
извечно рабыни ярости смертельной (лязг и визг)" (64, 1-4).
Итак, автором
сонета 64 в строках 1-2 описывалась "елизаветинская" эпоха: "When I have seen by
time's fell hand defaced the rich-proud cost of outworn buried age", "Когда Я
увидел, как обезобразила Времени опустившаяся рука обильно горделивые расходы
изношенного погребаемого века".
Хочу напомнить читателю, что в сонете 64,
также как и в остальных сонетах поэтический образ "Time", "Времени" необходимо
рассматривать, как персонифицированный образ "бога Времени", получивший
олицетворение в бородатом Хроносе и юном Кайросе одновременно, следуя
древнегреческому мифу. Причина такого подхода заключена в содержании строки 14
сонета 100.
В строках 3-4, повествующий бард продолжил повествовательную
часть, но зато мысленно перемещает читателя в античные времена "бронзового
века": "When sometime lofty towers I see down-razed, and brass eternal slave to
mortal rage", "Когда высокомерные башни когда-то Я узрел рухнувшими вниз, и
бронзы извечно рабыни ярости смертельной (лязг и визг)".
Применение поэтом
повторяющегося временного наречия "When", "Когда" в начале строк и 1 и 3,
является литературным приёмом "аллитерация", она указывает на выделение автором
сонета содержания этих строк.
Характерной особенностью сонета 64, является
повторяющаяся начальная часть каждого четверостишия "When I have seen...",
усиливающая контрдоводы во всех трёх четверостишиях. Чтобы увязать с мотивациями
поэта в строке 11, таким образом логически детерминировано завершить выводами
заключительных строк.
Краткая справка.
Аллитерация - это повторение одинаковых или однородных согласных частиц или
предлогов в начале стихотворной строки, придающее тексту особую звуковую
выразительность, особенно в стихосложении. Подразумевается большая, по сравнению
со средне языковой, частотность этих звуков на определённом отрезке текста или
на всём его протяжении. Об аллитерации не принято говорить в тех случаях, когда
звуковой повтор появляется, вследствие повторения морфем. Словарным видом
аллитерации является тавтограмма.
Конечная цезура строки 4 была мной
заполнена двумя словами в скобках "лязг и визг", что решило проблему рифмы
строки, установив её.
Риторический приём с применением автором
последовательности слов "sometime", "когда-то"; "I see", "Я узрел" и "brass",
"бронзы" строк 3-4, подсказывал, что он мысленно перенёсся последней Троянской
Войны, таким образом применив литературный приём "аллюзия".
Впрочем, в
содержании античных эпических поэмах Гомера "Одиссея" и "Илиада", написанных
дактилическим гекзаметром упоминание об башнях Трои и подготовке к решающему
сражению: "...till you either take the towers of Troy, or are yourselves
vanquished at your ships", "...пока вы также возьмёте башни Трои, либо сами будете
побеждены в битве при ваших кораблях". Насколько известно, после взятия Трои,
она была сожжена и разрушена до снования. Шекспир приёмом "аллюзия" перенёс своё
воображение при помощи литературного приёма "инверсия", в античные времена
сражения за Трою из-за Елены Троянской, которая была упомянута в строке 7 сонета
53. Таким образом, как будто фиксируя связь сонета 64 с 53-м.
Краткая
справка.
Инверсия в литературе (от лат. "inversio", "переворачивание";
"перестановка") - нарушение обычного порядка слов в предложении и законов
логики. В аналитических языках (например, английский, французский), где порядок
слов фиксирован строго, стилистическая инверсия распространена относительно
мало; во флективных, в том числе русском, с достаточно свободным порядком слов -
весьма значительно. Инверсия смысловая риторическая, умозрительное возвращение
во времени в сюжете повествования.
Поэтому для ознакомления и
сопоставления читателем прилагая фрагмент перевода "Илиады" Гомера (Hom. Il. 7.
1-79), ниже:
- Confer!
________________
(C) Swami
Runinanda
(C) Свами Ранинанда
________________
Original text by
Homer, "The Iliad". Book 7, line 1-79 with an English Translation by Samuel
Butler
This text is distributed for nonprofit and educational use only.
(Homer. The Iliad of Homer. Rendered into English prose for the use of those who
cannot read the original.
Samuel Butler. Longmans, Green and Co. 39
Paternoster Row, London. New York and Bombay. 1898?).
Athena
assented, and Helenos son of Priam divined the counsel of the gods; he therefore
went up to Hektor and said, "Hektor son of Priam, peer of gods in counsel, I am
your brother, let me then persuade you. Bid the other Trojans and Achaeans all
of them take their seats, and challenge the best man among the Achaeans to meet
you in single combat.
I have heard the voice of the ever-living gods, and the
hour of your doom is not yet come". Hektor was glad when he heard this saying,
and went in among the Trojans, grasping his spear by the middle to hold them
back, and they all sat down. Agamemnon also bade the Achaeans be seated. But
Athena and Apollo, in the likeness of vultures, perched on father Zeus' high oak
tree, proud of their men; and the ranks sat close ranged together, bristling
with shield and helmet and spear. As when the rising west wind furs the face of
the sea (pontos) and the waters grow dark beneath it, so sat the companies of
Trojans and Achaeans upon the plain. And Hektor spoke thus: - "Hear me, Trojans
and Achaeans, that I may speak even as I am minded; Zeus on his high throne has
brought our oaths and covenants to nothing, and foreshadows ill for both of us,
till you either take the towers of Troy, or are yourselves vanquished at your
ships. The princes of the Achaeans are here present in the midst of you let him,
then, that will fight me stand forward as your champion against Hektor. Thus I
say, and may Zeus be witness between us. If your champion slay me, let him strip
me of my armor and take it to your ships, but let him send my body home that the
Trojans and their wives may give me my dues of fire when I am dead.
In like
manner, if Apollo grant me glory and I slay your champion, I will strip him of
his armor and take it to the city of Ilion, where I will hang it in the temple
of Apollo, but I will give up his body, that the Achaeans may bury him at their
ships, and the build him a tomb (sema) by the wide waters of the Hellespont.
Then will one say hereafter as he sails his ship over the sea (pontos), 'This is
the marker (sema) of one who died long since a champion who was slain by mighty
Hektor'. Thus will one say, and my fame (kleos) shall not be lost.
Homer, "The Iliad". Book 7, line 1-79 with an English Translation by Samuel
Butler.
Афина согласилась, и Гелен, сын Приама, предугадал совет
богов; он по этой причине отправился к Гектору и сказал: "Гектор, сын Приама,
равный богам в совете, Я твой брат, позволь мне убедить тебя. Прикажи остальным
троянцам и ахейцам занять свои места и вызови лучшего воина среди ахейцев на
поединок один на один.
Я услышал голос вечно живущих богов, и час вашей
гибели ещё не настал". Гектор обрадовался, услышав эти слова, и пошёл к
троянцам, схватив своё копье за середину, чтобы удержать их, и все они сели.
Агамемнон также велел ахейцам сесть. Но зато Афина и Аполлон, уподобившись
стервятникам взгромоздились на высокий дуб отца Зевса, гордые своими воинами; и
рядами воинов сомкнувшихся, ощетинившихся щитами, шлемами и копьями. Тогда, как
усиливающийся западный ветер овеивал поверхность моря (понтос) и воды под ним,
темнеют, так чтоб расположились отряды троянцев и ахейцев на равнине. И Гектор
заговорил, таким образом: - "Послушайте меня, троянцы и ахейцы, чтобы я мог
говорить то, что думаю; Зевс на своем высоком троне свёл на нет наши клятвы и
соглашения и предвещает беду нам обоим, пока вы также возьмёте башни Трои, либо
сами будете побеждены в битве при ваших кораблях. Князья ахейские находятся
здесь, среди вас, и пусть тот, кто сразится со мной, выступит вперёд в качестве
вашего защитника против Гектора. Таким образом Я говорю, и да будет Зевс
свидетелем, между нами. Если ваш воин убьёт меня, пусть он снимет с меня доспехи
и отнесёт их на ваши корабли, но пусть отправит моё тело домой, чтобы троянцы и
их жены могли воздать мне должное огнём, когда я умру.
Точно так же, если
Аполлон дарует мне славу, и Я убью твоего воина, Я сниму с него доспехи и отвезу
их в город Илион, где повешу в храме Аполлона, но отдам его тело, чтобы ахейцы
могли похоронить его на своих кораблях и построили ему гробницу (сема) у широких
вод Геллеспонта. Тогда в будущем, плывя на своем корабле по морю (понтос),
какой-то скажет: "Это знак (сема) единственного, кто умер давным-давно,
чемпиона, убитого могущественным Гектором". При том, будет сказано, и моя слава
(клеоса) не будет утрачена.
Гомер,
"Илиада". Книга 7, строки 1-79, английский перевод Самуэль Батлер.
(Литературный перевод Свами Ранинанда 17.08.2024).
Краткая
справка.
"Илиада" (др. греч., лат.: "Iliad", "Илиада") - одна из двух
главных древнегреческих эпических поэм, приписываемых Гомеру. Это одно из
старейших дошедших до нас литературных произведений, которое до сих пор широко
читается современной аудиторией. Также как "Одиссея", поэма "Илиада" разделена
на 24 книги и написана дактилическим гекзаметром. В наиболее распространённой
версии она содержит 15 693 строки. Действие поэмы разворачивается в конце
Троянской войны (Trojan War), во время десятилетней осады города Трои коалицией
греческих государств Микенской области. В поэме описываются важные события
последних недель осады. В частности, в ней отображена и подробно описана
ожесточённая ссора между царём Агамемноном и знаменитым воином Ахиллом.
Примечательно, но эту основную часть эпического цикла "Илиады" принято, чаще
всего считать одним из первых значительных произведений античной литературы.
Эпические поэмы "Илиада" и "Одиссея", по всей вероятности, были написаны на
"гомеровском греческом", литературной смеси ионического греческого с другими
вблизи распространёнными диалектами, датированных около конца 8-го или начала
7-го века до нашей эры.
Ранее во времена античности и средневековья авторство
Гомера редко подвергалось сомнению, но современная наука в основном исходит из
того, что "Илиада" и "Одиссея" были написаны независимо друг от друга и что эти
истории длительное время были сформированы, как часть давней устной традиции.
Поэма была реализована профессиональными декламаторами Гомера, известными как
"рапсоды" (rhapsodes).
Важнейшими темами поэмы являются клеос (слава),
гордость, судьба и гнев. Несмотря на то, что поэма известна в основном своими
трагическими и серьёзными темами, в ней также содержит фрагменты образцов
комедии и смеха.
Античное поэтическое произведение специалистами описывается,
как мужественный и героический эпос, особенно в сравнении с "Одиссеей". В ней
содержатся подробные описания древних военных инструментов и тактики ведения
боя, а также значительно меньше женских персонажей. Олимпийские боги также
играют важную роль в поэме, помогая своим любимым воинам на поле боя и
вмешиваясь в личные споры. Описание их в стихотворении сделало их более
человечными для древнегреческой аудитории, дав конкретное представление об их
культурных и религиозных традициях. Что касается формального стиля, то ученые
часто исследуют повторы в стихотворении и использование сравнений и эпитетов.
Широчайшие познания Уильяма Шекспира греческая риторики и мифология, устных и
литературных традиций древних греков, касающиеся богов и мифологических героев,
воззрений древнегреческих философов на природу, а также предыстория
возникновения космизма, являясь исходным материалом, предоставляли
неограниченные возможности для размаха творческого воображения и взлёта фантазии
поэта и драматурга при написании сонетов и гениальных пьес.
Древнегреческие
мифы легли в основу произведений Шекспира, включая такие классические
произведения, как "Илиада" и "Одиссея" Гомера, "Труды и дни" и "Теогония"
Гесиода, "Метаморфозы" Овидия и драмы Эсхила, Софокла и Еврипида. Это были
завораживающие мифы, повествующие об сотворении богов и мироздания в целом,
борьбе между богами за господство и триумфе Зевса, любовных похождениях и ссорах
богов, а также влиянии богов, на мир смертных, включая их связь с природными
явлениями, такими как грозы или смена времён года в их непосредственной связи с
культовыми храмами или ритуалами.
Стоит отметить, что авторские переводы
Артура Голдинга (Arthur Golding) с латыни на английский эпоса "Метаморфозы"
Овидия, по определению большинства критиков оказали значительное влияние при
написании сонетов Шекспиром, в частности при создании поэтических образов
мифологии.
Характерно, что Артур Голдинг являлся английским переводчиком с
латыни на английский более, чем 30-и произведений. Голдинг был одним из первых,
кто перевёл "Метаморфозы" на английский язык, впервые опубликовал 22 апреля 1480
года, в тот же год, как Уильям Крэнстон, предположительно, ввёз печатный станок
в Англию. Этот перевод был сделан в прозе и представляет собой текст дословного
перевода с французского, известного как "Нравоучение Овидия", а не оригинала
Овидия с латинского.
При внимательном прочтении выше предложенного
фрагмента "Илиады" Гомера, а именно: "As when the rising west wind furs the face
of the sea and the waters grow dark beneath it", "Тогда, как усиливающийся
западный ветер овеивал поверхность моря (понтос) и воды под ним темнеют",
читатель обнаруживает подсказку на тот факт, что "неожиданно изменяющееся
направление усиливающего ветра", вполне может служить "природным явлением"
влияющим на исход сражения. - "И, как в подобной ситуации не обратиться к вере
во всесилие богов"?! (Nota Bene).
Продолжая в данном ключе и рассуждая об
"природных явлениях", повлиявших на исход сражения, к примеру морского, такого
как "Гравелинское сражение". При семантическом анализе последующих строк сонета
64, "непредсказуемо меняющегося направления усиливающего ветра" могло быть некой
подсказкой на не предсказуемый исход морского сражения, послужившего "аллюзией"
при написании строк 5-8 второго четверостишия сонета 64.
Краткая справка.
Аллюзия (лат. "allusio", "намёк") - стилистическая фигура, содержащая указание,
аналогию или намёк на некий литературный, исторический, мифологический или
политический факт, закреплённый в текстовой культуре или в разговорной речи.
Материалом при формулировке аналогии на намёк, образующего аллюзию, часто служит
общеизвестное историческое высказывание, какая-либо крылатая фраза или цитата из
классической поэзии. Аллюзией в литературоведении называют отсылку, намёк на
общеизвестный факт, сюжет или фразу. С помощью аллюзий авторы наполняют свои
произведения новыми смыслами, переосмысляют мифологию, историю, литературу,
теософию и философию, вступая в полемику с прошлым.
Ключевая фраза сонета
64: "state itself confounded to decay", "положение само собой запуталось -
упадком", предоставляла намёк на знаковые исторические сражения, как в первом
четверостишии, так и во втором. Дело в том, в елизаветинскую эпоху оборот речи,
глагол "confound" широко используемым военными, так как служил в качестве
идиомы, обозначающей: "запутать противника, чтобы его победить". Именно, поэтому
мной под сонетом 64 была сделана сноска из-за ключевого значения
рассматриваемого слова в расшифровке подстрочника. Несомненно, подобное
истолкование глагола "confound", в данном случае, очевидно могло указывать на
"аллюзию" с аллегорическим описанием неких боевых действий.
Стоит
отметить, что некоторые критики указывали на непосредственное влияние поэзии
Эдмунда Спенсера на содержание начальной части сонета 64. Не смею оспаривать их
мнение, но не могу согласиться с такой точкой зрения. По-видимому, данное
утверждение можно было бы перенаправить к строке 11 сонета 64: "Ruin hath taught
me thus to ruminate", где в риторическом развороте она служит связующим звеном
прагматической логики Шекспира для окончательных выводов, изложенных в
заключительных строках.
По ходу семантического, были мной проставлены
знаки препинания, а также учтены "шекспировские" слова-символы оригинального
текста Quarto 1609 года, что существенно облегчало задачу поэтапного раскрытия
подстрочника. Хочу отметить, что второе четверостишие представляет собой одно
многосложное предложение, в которое входят несколько односложных.
"When I
have seen the hungry Ocean gain
Advantage on the Kingdom of the shore,
And
the firm soil win of the watery main,
Increasing store with loss and loss
with store" (64, 5-8).
"Когда Я увидел изголодавшийся Океан достигший
(того)
Преимущества для Королевства берегового,
И твёрдая почва,
выигравшая у водного - в основном,
Наращивала сохранённое с утерянным и
потерю с запасом" (64, 5-8).
В строках 5-6, повествующий использует
иносказательную аллегория при помощи слов-символов: "When I have seen the hungry
Ocean gain advantage on the Kingdom of the shore", "Когда Я увидел
изголодавшийся Океан, достигший (того) преимущества для Королевства берегового".
Конечная цезура строки 5 была мной заполнена местоимением в скобках "того",
установившее рифму строки. Семантически это местоимение связует строки 5 и 6 и
дополняет по смыслу первое слово "advantage", "преимущества" строки 6.
В
строках 7-8 поэт продолжил повествовательную часть по всем признакам событий
исторического значения для Англии: "And the firm soil win of the watery main,
increasing store with loss and loss with store", "И твёрдая почва, выигравшая у
водного - в основном, наращивала сохранённое с утерянным и потерю с запасом".
Подстрочник строк 7-8, по имеющимся в сонете поэтическим образам, скорее всего
имеет отношение к знаменитому "Гравелинскому сражению" у побережья Англии,
завершившимся полным разгромом Испанской Армады. Когда непредвиденный
усиливающийся ветер с подветренный стороны и течения помогли англичанам
разорвать боевое построение фрегатов испанцев разбросав их по морю.
Биографические записи королевского архивариуса Обри Берла (Aubrey Burl)
подтверждали, что Эдуард де Вер, 17-й граф Оксфорд (Edward de Vere, 17th Earl of
Oxford) принимал участие в разгроме Испанской Армады в качестве командного
состава, и поэтому ему было известно, не понаслышке мореходство и военное дело.
Краткая справка.
Битва при Гравелине (1588) или "Гравелинское сражение" -
морское сражение, состоявшееся 27 июля (8 августа) 1588 год между английским и
испанским флотами к северу от Гравелина. Закончилось поражением испанской
Непобедимой Армады, состоявшей из 130 кораблей (среди них 28 военных кораблей:
20 галеонов, 4 галеры, 4 галеаса, остальное - торговые суда, вооружённые для
участия в походе). В этом сражении отличились английские адмиралы Дрейк, Хокинс,
Фробишер. Командующие: герцог Медина Сидония (Испания), Чарльз Говард, лорд
Эффингэм (Англия).
Медина Сидония направился к острову Уайт, рассчитывая
найти там удобную стоянку и дождаться известий от герцога Пармского,
командующего сухопутными силами вторжения. 29 июля англичане заметили с берегов
Корнуолла приближение Армады. 30 июля Западная эскадра английского флота,
вышедшая из Плимута, зашла Армаде в тыл, и на следующий день атаковала её. У
Плимута испанцы понесли первые потери, но не от вражеского огня: "Розарио",
флагманский корабль Педро де Вальденса, столкнулся с "Санта-Каталиной" и потерял
мачту, а через некоторое время на "Сан-Сальвадоре", где находилась казна флота,
по неизвестной причине произошёл пожар. Казну и оставшихся в живых членов
экипажа удалось снять, но корабль пришлось оставить. На рассвете 1 августа
отставший "Розарио" был захвачен Дрейком, такая же участь вскоре постигла и
обломки "Сан-Сальвадора".
Чарльз Говард тем временем разделил свой флот на
четыре отряда, которые поочерёдно обстреливали испанские корабли. Испанцы
сохраняли предписанный им королевской инструкцией боевой порядок (в форме
полумесяца, с транспортами посередине), поэтому англичане старались не подходить
к ним слишком близко. После нескольких стычек им удалось отогнать испанский флот
от острова Уайт, при этом они израсходовали почти все боеприпасы, не причинив
испанцам существенного вреда.
Но Медина Сидония не догадывался о том, что
англичане испытывают затруднения с боеприпасами. Их беглый огонь убеждал его в
обратном. Он принял решение двигаться к берегам Фландрии, на встречу с герцогом
Пармским, от которого он так и не получил известий.
Пятого августа Армада
двинулась к Кале. Западная эскадра последовала за ней. Комендантом Кале в то
время был Жиро де Молеон, католик, симпатизировавший испанцам и ненавидевший
англичан. Гавань Кале была слишком мала для такого огромного флота, но позволила
испанским судам встать на якорь под прикрытием береговых батарей, где они были в
относительной безопасности от английских атак, и пополнить запасы воды и
продовольствия. Дальше, в сторону Дюнкерка, испанский флот двигаться не мог -
выяснилось, что голландцы убрали все бакены и другие навигационные знаки к
востоку от Кале, как раз там, где начинаются банки и отмели, и что англичане и
голландцы курсируют в районе Дюнкерка, готовые перехватить транспорты Пармы.
Говард решил воспользоваться затруднениями испанцев. В ночь с 7 на 8 августа,
англичане пустили в сторону тесно сбившихся испанских кораблей восемь брандеров.
Это вызвало панику среди испанских капитанов - вероятно, что они приняли
обыкновенные брандеры, гружёные хворостом, смолой и соломой, за начинённые
порохом "адские машины", с которыми они уже встречались во время войны в
Нидерландах. Пытаясь избежать столкновения с пылающими брандерами, многие
испанцы перерубили якорные канаты. Лишившись якорей, они уже не могли сохранять
боевой порядок у Кале, испанский строй распался. Сами брандеры не причинили
испанцам никакого вреда, но многие корабли Армады пострадали от столкновений с
соседними судами. Говард не мог в полной мере воспользоваться замешательством
противника - не хватало пороха и ядер. Англичане ограничились атакой на
потерявший управление галеас, дрейфовавший у входа в бухту.
Испанский адмирал
остался на месте с четырьмя большими галеонами. Он был готов принять бой,
рассчитывая задержать англичан и дать время перестроиться остальным кораблям
Армады. На следующий день, 8 августа, англичане получили подкрепления и
боеприпасы - к Говарду присоединилась эскадра лорда Сеймура. Они решились,
наконец, помериться силами с Армадой в открытом бою, тем более что численное
преимущество теперь было на их стороне. Атаку возглавил Дрейк. Его корабли
открыли огонь с дистанции 100 метров. За ним последовал отряд Фробишера.
В
этом сражении, произошедшем между Гравелинской отмелью и Остенде, сказалось
преимущество английской артиллерии. Англичане по-прежнему избегали абордажных
схваток, обстреливая противника, но теперь уже на близкой дистанции, где их
пушки причиняли испанским кораблям значительные разрушения, и сосредоточив огонь
на отдельных, оторвавшихся от строя кораблях. Испанская артиллерия была не столь
эффективна. Выяснилось, что испанские чугунные ядра, в силу какого-то
технологического дефекта, разлетаются на куски при ударе об обшивку, не пробивая
её, что пушки, установленные на переоборудованных торговых судах, при полном
бортовом залпе причиняют, за счёт отдачи, больше вреда им самим, нежели
противнику.
Канонада продолжалась около девяти часов. Испанские суда, менее
манёвренные, из-за противного ветра не могли оказать помощи друг другу.
Англичанам удалось потопить один или два испанских корабля и повредить ещё
несколько. Матросы едва успевали откачивать воду из пробитого в нескольких
местах испанского флагмана. Потеряв управление, один испанский корабль сел на
мель у Кале, три корабля, были подхвачены и унесены ветром на восток, где они
тоже сели на мель, были вскоре были захвачены голландцами. Англичане не потеряли
ни одного корабля, потери личного состава за несколько дней непрерывных морских
сражений составляли порядка 100 человек. Испанцы в этом бою потеряли более 600
человек убитыми и приблизительно 800 ранеными.
Сражение не принесло
англичанам полной победы, к тому же у них опять кончились боеприпасы, которые,
на этот раз, они в ближайшее время восполнить не могли. Медина Сидония
опять-таки не подозревал об этом и не решился атаковать противника, тем более
его собственный запас пороха и ядер подходил к концу. Испанский адмирал
разуверился в том, что имеющимися у него силами контроль над проливом будет
невозможно установить. Тем более, чтобы выдвигаться к устью Темзы, не могло быть
и речи, поэтому 9 августа, не предупредив Парму, он направился на север,
намереваясь обогнуть Шотландию и спуститься на юг вдоль западного берега
Ирландии (окончательное решение использовать этот обходной путь было принято,
только лишь к 13-му августа).
Однако, дрейфовать к востоку от Англии не имело
смысла, так как Армаду могло унести ветром на фламандские банки. Возвращаться
назад через Дуврский пролив Медина Сидония тоже не решился, опасаясь новых атак
английского флота, в то время испанцы не догадались об затруднениях англичан и
упустили шанс вернуться домой до начала осенних штормов.
В течение двух дней
англичане преследовали Армаду. Тогда как 11 августа они получили известие, что
армия герцога Пармского готова к погрузке на суда (это известие до командования
Армады, по-видимому, не дошло, а герцог все ещё надеялся, что Армада подойдёт к
Дюнкерку и прикроет его транспорты), и тогда Сеймур вернулся со своим отрядом к
Даунс, чтобы предотвратить ему возможную на высадку. Остальные английские
корабли преследовали Армаду ещё в течение суток, а затем повернули назад,
поскольку не имели на борту достаточно воды и продовольствия. Намерения испанцев
англичанам были неизвестны, они предполагали, что Армада может пополнить запасы
у берегов Дании или Норвегии и вернуться назад, поэтому английский флот ещё в
течение многих дней находился в боевой готовности.
Невзирая на это, остатки
судов Армады, потрёпанных штормами тем временем, обогнули Шотландию и 21 августа
вышли в Атлантический океан. Испанские моряки плохо знали этот район,
навигационных карт на него у них не было. Начавшиеся в сентябре штормы разметали
испанский флот, многие корабли, сбившись с курса, потерпели крушение у берегов
Ирландии, выбравшиеся на берег испанцы были либо убиты на месте местными
жителями, либо захвачены в плен для выкупа. В общей сложности флот Армады
потерял порядка 3/4 личного состава, а также половину кораблей. Между 22
сентября и 14 октября уцелевшие 67 или 65 кораблей Армады (из 130-ти
первоначально имевшихся) достигли испанских берегов. В итоге Испания,
претендовавшая на мировое морское превосходство, была повержена, уступив
первенство Англии, которая начиная со времён победы над Армадой стала называться
Великобританией.
Но, предлагаю переместить фокус внимания, возвратившись
к семантическому анализу сонета 64, погрузившись во вселенную мастера
драматургии и барда. Третье четверостишие представляет собой одно многосложное
предложение, состоящее из нескольких односложных, но связанных по смыслу. В ходе
семантического анализа строк 9-12, используя "шекспировское" правило "двух
строк".
"When I have seen such interchange of state,
Or state itself
confounded to decay,
Ruin hath taught me thus to ruminate
That Time will
come and take my love away" (64, 9-12).
"Когда такую развязку состояния
мне лицезреть (невмочь),
Либо положение само собой запуталось - упадком,
Разрушенное научило меня, подобным образом размышлять,
Что Время ещё придёт и
заберёт мою любовь прочь" (64, 9-12).
В строках 9-10, повествующий
подводя линию написанному выше указал на удручающее положение дел, сформулировав
так: "When I have seen such interchange of state, or state itself confounded to
decay", "Когда такую развязку состояния мне лицезреть (невмочь), либо положение
само собой запуталось - упадком".
Конечная цезура строки 9 была мной
заполнена наречием в скобках "невмочь", которое органически вписалось в
"шекспировскую" свободную строку установив рифму строки.
В строках 11-12,
повествующий бард приходит к неутешительным выводам, что беспощадное Время
забирает всё, что дорого любому человеку: "Ruin hath taught me thus to ruminate
that Time will come and take my love away", "Разрушенное научило меня, подобным
образом размышлять, что Время ещё придёт и заберёт мою любовь прочь".
Образ Времени автором, выделенный в слове-символе с заглавной отмечен
идентификационный маркером персонифицированного "бога Времени" с помощью приёма
"аллюзия" переадресовывая читателя к древнегреческой мифологии. Ключевая строка
11, является логическим умозаключением поэта, которое он сделал для самого себя:
"Ruin hath taught me thus to ruminate", "Разрушенное научило меня, подобным
образом размышлять".
В данном случае, есть резон провести сравнительный
анализ образов строки 11 сонета 64 Шекспира со строками поэтического перевода
Эдмунда Спенсера "Руины Рима" Беллея, поэтому любезно прилагаю читателю для
ознакомления и сравнения ниже.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text
by Edmund Spenser "Ruins of Rome" by Bellay, VII
This text is distributed
for nonprofit and educational use only.
(The Project Gutenberg eBook of
The Poetical Works of Edmund Spenser, Volume V, by Edmund Spenser.
This eBook
is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of
the world at no cost
and with almost no restrictions whatsoever. You may copy
it, give it away or re-use it under the terms of the
Project Gutenberg
License included with this eBook).
VII.
Ye sacred ruines,
and ye tragick sights,
Which onely doo the name of Rome retaine,
Olde
moniments, which of so famous sprights
The honour yet in ashes doo maintaine,
Triumphant arcks, spyres neighbours to the skie,
That you to see doth th
'heaven it selfe appall,
Alas! by little ye to nothing flie,
The peoples
fable, and the spoyle of all!
And though your frames do for a time make warre
Gainst Time, yet Time in time shall ruinate
Your workes and names, and your
last reliques marre.
My sad desires, rest therefore moderate!
For if that
Time make ende of things so sure,
It als will end the paine which I endure.
Edmund Spenser "Ruins of Rome" by Bellay, VII.
VII.
Вы,
священные руины, и вы, трагические зрелища,
Которые только и делают, что
удерживают имя Рима,
Старые воспоминания о столь знаменитых людях
Слава,
всё ещё покоится в пепле поддерживая,
Триумфальные арки, соседствующие с
небом,
То, что вы видите, сами по себе ужасают небеса,
Увы! мало-помалу вы
ни к чему не приобщитесь,
Народная притча и пропитавшаяся во всём!
И хотя
ваши обрамленья на время затеют борьбу,
Завоёвывая Время, всё же Время со
временем должно разрушать
Ваши труды и имена, и ваши последние реликвии
испортит.
Мои печальные желания, поэтому умеренно отдыхайте!
Ибо, если это
Время сделает в конце концов такое наверняка,
Тем также положит конец боли,
что был Я вынужден испытать.
Эдмунд Спенсер "Руины Рима" Беллея, VII.
(Литературный перевод Свами
Ранинанда 17.08.2024).
* retain -
(глагол) сохранять, удерживать,
нанимать, оставлять у себя.
Спряжение: retained / retained / retaining /
retains.
Примеры:
We should retain those people.
Мы должны удержать
этих людей.
Оксфордский Большой словарь в 12-ти томах изд. 1928 (Oxford
English Dictionary, OED).
В заключительном двустишии,
подводящем черту вышенаписанному, автор описывает свои личные переживания,
связанные с потерей юноши, когда нет выбора в противостоянии с всеразрушающим и
беспощадным Временем. Следуя канону, чисто английского "шекспировского" сонета
можно сказать, что столь искренние и проникновенные строки заключительного
двустишия повествующий поэт вполне мог адресовать юноше, хотя в остальных
строках нет упоминания или прямого обращения от первого лица к "молодому
человеку".
"This thought is as a death, which cannot choose
But weep
to have that which it fears to lose" (64, 13-14).
"Такая мысль, как
смерть, какую невозможно выбрать,
Но зато оплакивающая владеет тем, кого
боится потерять" (64, 13-14).
В строках 13-14, повествующий раскрывает
свои самые сокровенные чувства: "This thought is as a death, which cannot choose
but weep to have that which it fears to lose", "Такая мысль, как смерть, какую
невозможно выбрать, но зато оплакивающая владеет тем, кого боится потерять".
Стоит напомнить, что в строках 13-14 речь шла об поиске "идеала небесной
красоты" на духовном уровне, согласно философским воззрениям "Идеи Красоты"
Платона.
(Примечание: для ознакомления читателем прилагаю критические
дискуссии и заметки, имеющие прямое отношения к сонету 64, которые могут
заинтересовать исследователей, занимающихся углублённым изучением наследия гения
драматургии. По этическим соображениям, текст предоставленного материала в ходе
перевода максимально сохранен, поэтому автор эссе не несёт ответственности за
грамматические сокращения, стилистику и пунктуацию ниже предоставленного
ознакомительного архивного материала).
Критические дискуссии и
заметки к сонету 64.
Критик Пэлгрейв (Palgrave) пояснил и подчеркнул
характерные черты: "... (сонеты 64-66) образуют одну поэму удивительной силы
восприятия и красоты".
Критик Сидни Ли (Sydney Lee) предположил и
(рассматривал сонет, как основанный на пересказе Овидия об "башнях" Афин, Фив и
других городов Греции, "в руинах древних сооружений, которые заросли травой".
(Qu. Rev., 210: 472).
Сходство с Овидием было замечено Уокером (Walker,
Crit. Exam., 1: 152).
Критик Стоупс (Stopes) дополняя переадресовал на
фрагмент пьесы: Cf.! Lucrece, 939, 944-948:
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text
by William Shakespeare "Rape of Lucrece" line 939, 944-948
This text is
distributed for nonprofit and educational use only.
"Time's glory
is to calm contending kings...
To ruinate proud buildings with thy hovers,
And smear with dust their glitt'ring golden towers;
To fill with worm-holes
stately monuments,
To feed' oblivion with decay of things,
To blot old
books and alter their contents".
William Shakespeare
"Rape of Lucrece" line 939, 944-948.
"Величие Времени - это
усмирять враждующих королей...
Разрушить гордое возведённое с помощью твоих
парящих (Хорай)
И покрывающих пылью их блистающие золотые башни;
Заполнив
червоточины величественных монументов,
Подпитывая забвение при помощи
разложенья вещей,
В пятнах испачкав старые книги и изменив их содержанье".
Уильям Шекспир "Изнасилование Лукреции" 939, 944-948.
(Литературный перевод Свами Ранинанда 17.08.2024).
В строке 4 по
поводу аллегорического оборота речи "brass eternal slave "бронза извечная
рабыня" (любопытно, что это употребление слова бронза", с его отголосками "aere
perennius", "воздух более постоянный" и т.д., что не нашло себе особого места в
A. T. E. D. - Ed.).
Дискуссируя об строках 5-8 критик *Капелл (Capell) для
сравнения дал ссылку на фрагмент пьесы: Cf.! 2 H. 4, III, I, 46-52:
"And
see the revolution of the times
Make mountains level, and the continent
Weary of solid firmness, melt itself
Into the sea! and, other times, to see
The beachy girdle of the ocean
Too wide for Neptune's hips; how chances mock,
And changes fill the cup of alteration".
"И увидеть виток во времени,
Выравнивающий уровень гор и континент,
Уставший от твёрдой непоколебимости,
расплавит сам себя
Внутри моря! И в другой раз - рассмотрев
Прибрежный
пояс океана,
Также широкий для бёдер Нептуна, настоль шансов поглумиться,
И изменяющийся переполняя чашу альтераций".
Критик Джордж Стивенс (George
Steevens) привёл для сравнения фрагмент пьесы: Cf.! 2 H. 4, III, I, 108-111 (of
the River Trent):
"Mark how he bears his course, and runs me up
With
like advantage on the other side;
Gelding the opposed continent as much
As
on the other side it takes from".
"Обратите внимание, как держит он курс
и гонит ко мне
С помощью подобного преимущества с другой стороны;
Отрезая
противоположный континент так же много
Как и на другой стороне, откуда его
забирает".
Критик Уильям Рольф (William Rolfe) выразил свою точку зрения,
следующим образом: "Некоторые критики выражали удивление по поводу того, что Sh.
что-либо знал об этих постепенных вторжениях моря на сушу; но они были известны
на восточном побережье Англии ещё до него. (Он сослался на свою заметку к R. 2,
II, I, 295, в которой писалось об нашествии моря, которое смыло большую часть
города Равенсбург в устье Хамбера в 14 веке).
Критик Сидни Ли (Sydney
Lee) для сравнения предложил фрагмент перевода Голдинга: "Ещё один из
многочисленных отголосков философских изысканий Sh. есть в Ovid's Metam., XV":
"Even so have places often-times exchanged their estate,
For I have seen it
sea which was substantial ground alate.
Again where sea was, I have seen the
same become dryland".
"Несмотря на это, есть места-времён, сменившие их
собственность
Потому что я видел море, которое было значительной частью суши.
И снова там, где было море, я видел, те же земли становились сушей".
(Эти
заметки Рольфа и Сидни Ли позволяют нам сделать типичный выбор между жизнью и
литературно поэтическими фрагментами в качестве источников. - Ed.).
Критик Тайлер (Tyler) предоставил для сопоставления фрагмент: Cf.! "In
Memoriam", CXIII:
"There rolls the deep where grew the tree.
O earth,
what changes hast thou seen!
There where the long street roars hath been
The stillness of the central sea".
The hills are shadows, and they flow
"From form to form, and nothing stands;
They melt like mist, the solid lands,
Like clouds they shape themselves and go".
"Там, где росло дерево,
простирается бездна.
О земля, какие перемены ты узрела!
Там, где шумела
длинная улица, была
Неподвижность центрального моря".
"Холмы - это
тени, и они перетекают
От формы к форме, и ничто не стоит на месте;
Они
тают, подобно туману твёрдые земли,
Как облака, они формируются и исчезают".
По поводу строки 8 критик Тайлер (Tyler) прокомментировал, таким образом:
"Расширяя свои владения за счёт того, что другие теряют, и теряя за счёт того,
что другие приобретают, накапливают". Критик Шмидт (Schmidt) апеллируя
предположил: "Изобилие".
В строках 9-10 относительно повторяющегося слова
"state ...state "состояние... положение" критик Шмидт (Schmidt) (давал
определение первому, как "состояние", второму - как "положение". Так же, по
сути, поступили критики Бичинг и Тайлер; но Уиндхэм дал определение второму, как
"condition in the abstract", "абстрактное условие", к примеру, сравнивая с S.
124, 1, где, однако, он, по всей вероятности, также ошибался в своей
интерпретации. Что касается первого употребления этого слова. Cf.! "estate",
"имущество" в цитированном выше отрывке из Овидия "Метаморфоз" в переводах
Голдинга. - Ed.).
Рассуждая об строке 13 критик Эдвард Дауден (Edward
Dowden) пояснил, так: "Эту мысль, какую автор не сможет принять и т.д., так как
она подобна смерти". Критик Прайс (Price) выделил и отметил характерные
особенности сонета 64, следующим образом: "Не менее 10 из 14 стихов (этого
сонета) связаны между собой по созвучию в слоге. (Этим) подчёркивается прелесть
динамики строк стиха и единство сонетной формы...значительно расширены" (p.
371).
Критиком Г. Х. Палмер (G. H. Palmer) были взяты в качестве примера
сонеты, в которых наиболее сжатой форме идёт изложение, по его мнению, где
главная тема всей последовательности - это мимолётность жизни и любви. В этой
связи он отметил, что слово "time" встречается в текстах сонетов 78-мь раз;
"death" - 21-н; "age" - 18-ть (pp. 16-19). ("Shakespeare, William. Sonnets, from
the quarto of 1609, with variorum readings and commentary". Ed. Raymond
MacDonald Alden. Boston: Houghton Mifflin, 1916).
_________
Original text
_________
Aghast my loue shall be as I am now
With times iniurious hand chrusht and ore-worne,
When houres haue dreind his
blood and fild his brow
With lines and wrincles, when his youthfull morne
Hath trauaild on to Ages steepie night,
And all those beauties whereof now he
's King
Are vanishing, or vanisht out of sight,
Stealing away the treasure
of his Spring.
For such a time do I now fortifie
Against confounding Ages
cruell knife,
That he shall neuer cut from memory
My sweet loues beauty,
though my louers life.
His beautie shall in these blacke lines be seene,
And they shall Hue, and he in them still greene.
- William Shakespeare
Sonnet 63, text Quarto 1609.
(Shakespeare, William (1609). Shake-speares
Sonnets: Never Before Imprinted. London: Thomas Thorpe).
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Aghast my love shall be, as I am now,
With time's injurious hand crushed and
o'erworn;
When hovers have drained his blood, and field his brow
With
lines and wrinkles; when his youthful morn
Hath travailed on to Age's steepy
night,
And all those beauties whereof now he 's King
Are vanishing, or
vanished out of sight,
Stealing away the treasure of his Spring.
For such
a time do I now fortify
Against confounding Age's cruel knife,
That he
shall never cut from memory
My sweet love's beauty, though my lover's life.
His beauty shall in these black lines be seen,
And they shall live, and he in
them still green.
- William Shakespeare Sonnet 63
____________________________
2024 © Литературный перевод
Свами Ранинанда, Уильям Шекспир Сонет 63
*
*
*
Ошеломлённая моя любовь будет такой же, как Я - сейчас,
Раздавленной
и потрёпанной от сокрушающей руки Времени (тогда);
Когда парящие (Хораи)
иссушат его кровь и поле его лба (подчас)
С линиями морщин; когда его утро
юношества,
Измученного возрастом погрузят в ночь (само собой),
И всем этим
красавицам, которым сейчас он - Король
Исчезнувших, либо исчезающих с глаз
долой,
Похитивших прочь, сокровище его Весны. (исподволь)
Для такого
времени, сейчас Я укрепляюсь, (покуда)
Наперекор запутанному Веку жестокого
клинка,
Чтоб он никогда не обрезал из памяти
Моей милой любви красоту,
хотя бы жизнь моей любви.
Его красота должна быть увидена в этих чёрных
линиях,
И они должны остаться жить, а он всё ещё свежим в них.
*
*
*
Copyright © 2024 Komarov A. S. All rights reserved
Swami Runinanda
Jerusalem 04.08.2024
_________________________________
(Примечание от автора эссе: для сохранения замысла поэта и драматурга мне
пришлось вернуть изначально написанное автором первое слово начальной строки
сонета 63: "Aghast", "Ошеломлённая", которое было заменено на "Against,
"Наперекор" или "Вопреки" редактором Буллок (Bulloch). Дело в том, что эта
неоправданная замена подменяла смыслы, заложенные автором сравнительной
аллегорической метафоры, ибо поэт в сослагательном наклонении описывал, какой
будет его "ошеломлённая любовь", то есть юный Саутгемптон по прошествию многих
лет в старости, увидев себя в зеркале.
Рассматривая связанные по смыслу
строки 3-5 Шекспир, как автор сонетов определённо оперировал ссылками на сюжет
из древнегреческого мифов, взяв за образец поэтический образ "seasons", "сезонов
года"; "hovers" ("howers" из Quarto 1609), "парящих" или "парящих" Хорай,
которому нашёл применения не только в сонете 5 но и в паре анакреонтических
сонетов 153 и 154. Оборот речи строки 5 "steepy night", "погрузят в ночь",
согласно древнегреческому античному эпосу, означал "погрузят в ночь смерти".
Именно, этот поэтический образ "hovers", "парящих или "парящих"
Хорай играл исключительную и незаменимую роль в более широком
понимании персонифицированных "сезонов года" в облике юных богинь, дочерей
Зевса, прислуживающих Афродите, в тоже время этот необычайно выразительный образ
греческой мифологии является сюжетообразующей "аллюзией", буквально для всех
154-х сонетов предоставляя прямую ссылку на древнегреческую мифологию в
интерпретациях Гесиода и Гомера. (Hesiod: "Works and Days" pp. 74-75). (Homeric
"Hymn to Aphrodite" 6. Line 5-13).
Поэтому, в строке 3 сонета 63 мной было
возвращён исходный ключевой образ поэтический образ "seasons", "сезонов года";
"hovers" ("howers" из Quarto 1609), "парящих" или "парящих" Хорай, который
позднее редактор Джон Керриган (John Kerrigan) без на то причины заменил на
слово "hours", "часы", обозначающее промежуток времени, которое разрушило
изначальный замысел Уильяма Шекспира, как автора сонетов). (Shakespeare, William
(1609). Shake-speares Sonnets: Never Before Imprinted. London: Thomas Thorpe).
* hover -
(прилагат.) (множ. ч.) hovers - парящие.
(глаголы непереходной
формы) парить, зависать, колебаться.
Спряжения: hovered / hovered / hovering
/ hovers
(intransitive) (+ adv./prep.) (для птиц, вертолётов и т.д.)
оставаться в воздухе на одном месте.
Примеры:
A hawk hovered over the
hill.
Над холмом завис ястреб.
A full moon hovered in the sky.
Полная луна парила в небе.
(intransitive) (+ adv./prep.) (для персоны)
ждать где-то, особенно рядом с кем-то, застенчиво или неуверенно.
Примеры:
He hovered nervously in the doorway.
Он нервно завис в дверном проёме.
(intransitive) (+ adv./prep.) оставаться рядом с чем-то или оставаться в
неопределённом состоянии.
Примеры:
Temperatures hovered around
freezing.
Температура колебалась около нуля.
She
was hovering between life and death.
Она зависала между жизнью и смертью.
Оксфордский Большой словарь в 12-ти томах изд. 1928 (Oxford English Dictionary,
OED).
** steep
(прилагательное)
steeper / steepest /steepy
крутой, отвесный, обрывистый.
Примеры:
It's on very steep ground.
Это на очень крутом подъёме.
Most roads are not hard-surfaced, are
exposed to landslides and erosion, and wind through mountain terrain with steep
cliffs.
Большинство дорог не асфальтированы и подвержены оползням и эрозии,
при этом они часто проходят по горной местности с обрывистыми скалами.
steep -
(глагол)
Спряжения: steeped / steeped / steeping / steeps
погружаться, погрузиться, погружая
Примеры:
I was the chief British
negotiator on the subject, and I was steeped in the issue.
Я был главным
британским переговорщиком по этому вопросу и с головой погрузился в проблему.
Оксфордский Большой словарь в 12-ти томах изд. 1928 (Oxford English Dictionary,
OED).
*** ПОДЧАС, -
нареч. (разг.). Иногда, по временам, в
какой-нибудь момент, в какой-то момент, порой, при случае.
"Подчас на них
гляжу я строго, но бросить в печку не могу". Некрасов.
Толковый словарь
Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
**** ИСПОДВОЛЬ, -
нареч. (разг.).
Понемногу, постепенно. Исподволь стал заниматься приготовлением к отъезду.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
***** confound -
путать, запутать, смутить, ввести в замешательство;
(synonym baffle,
дефлектор синонима)
(формальные глаголы) (глагольные формы) (идиомы);
запутались они / смутились вы; запутать кого-то,
чтобы запутать и удивить
кого-то.
Примеры:
The sudden rise in share prices has confounded
economists.
(дефлектор синонима)
Внезапный рост цен на акции смутил
экономистов.
Запутать кого-то / что-то, чтобы доказать, что кто-то /
что-то не так,
чтобы обмануть ожидания.
Примеры:
She confounded her
critics and proved she could do the job.
Она смутила своих критиков и
доказала, что справится с работой.
The rise in share prices confounded
expectations.
Рост цен на акции смутил ожидания.
Запутать кого-то
(старомодный), чтобы победить врага; используется,
дабы показать, что вы
злитесь на что-то / на кого-то.
Оксфордский Большой словарь в 12-ти томах
изд. 1928 (Oxford English Dictionary, OED).
Сонет 63 - один из 154 сонетов, написанных английским драматургом и поэтом
Уильямом Шекспиром. Сонет 63 входит в последовательность сонетов "Прекрасная
молодёжь", "Fair Youth" сонеты (1-126).
В сонете 63 поэт выражает свою
озабоченность о том, чтобы память о красоте его фаворита была сохранена и
защищена. Поэт представляет себе время, когда молодой человек станет старым и
измученным, как он, поэт, сейчас. Течение времени иссушит кровь молодого
человека, на его лице появятся морщины, разрушит и сотрёт всю его красоту.
Время, в конце концов, "...заберёт молодость юноши, но, чтобы красота молодого
человека не стёрлась из памяти, мы прочтём строки этого сонета и сохраним в
своей памяти красоту молодого человека". (Shakespeare, William. Duncan-Jones,
Katherine. "Shakespeare's Sonnets". Bloomsbury Arden 2010, p. 236 ISBN
9781408017975).
В отличие от сонета 2, в котором бессмертие обретается
через "продолжение рода", но в сонете 63 подобный нарратив обретает в контексте
строках 13-14, совершенно другое звучание: "His beauty shall in these black
lines be seen and they shall live, and he in them still green", "Его красота не
должна быть увидена в этих чёрных линиях и они должны остаться жить, а он всё
ещё свежим в них", что указывает на влияние философских взглядов "платоновского"
космизма из трактатов "Закон Герметизма" и "Идея Красоты" Платона.
Структура построения сонета 63.
Сонет 63 - это английский или
шекспировский сонет. Английский сонет состоит из трех четверостиший, за которыми
следует заключительное рифмованное двустишие. Поэтическая строка сонета следует
типичной схеме рифмовки формы ABAB CDCD EFEF GG и написан пятистопным ямбом,
разновидностью поэтического размера, основанного на пяти парах метрически слабых
/ сильных слоговых позиций. Третья строка иллюстрирует правильный пятистопный
ямб:
# / # / # / # /
# /
"Когда парящие (Хораи) иссушат его кровь и поле его лба
(подчас)" (63, 3).
/ = ictus, метрически сильная слоговая позиция. # =
nonictus.
Сонет довольно метрически ровен, но выделяются два варианта:
# / # / # / / # # /
"Раздавленной и потрёпанной от сокрушающей руки Времени (тогда)" (63, 2).
/ # # / # / # / # /
"Похитивших прочь сокровище его Весны. (исподволь)" (63, 8).
Развороты -
подобно таким, как разворот в середине строки в слове "crush'd and", "раздавить"
и разворот начала строки в слове "stealing", "похитить" - вполне могли быть
использованы автором для придания особого значения словам, особенно глаголам
действия или движения, что критик Марина Тарлинская назвала "ритмическим
курсивом". Здесь оба примера подчёркивают жестокое воздействие времени на
красоту. (Tarlinskaja, Marina (2014). Shakespeare and the Versification of
English Drama", 1561-1642. Farnham: Ashgate, pp. 29-32. ISBN 978-1-4724-3028-1).
Критический анализ сонета 63.
Как и в сонете 2, в сонете 63 используются
резкие и сокрушительные образы, чтобы показать влияние времени на появление
морщин на лице. Преобладающие метафоры в этом сонете сравнивают юную красоту с
богатством, как в сонете 4, а старость и смерть - с ночью, как в сонете 12.
"Акцентирование внимания к смертному исходу для человека по истечению времени в
контексте этого сонета, остаётся главным пунктом в центральной части сюжетной
линии не только сонета 83, а также двух следующих сонетов, включая сонет 65
содержится почти такое же разрешение проблемы, как и в данном случае". (Booth,
Stephen, ed. 2000 (1st ed. 1977. Shakespeare's Sonnets (Rev. ed.). New Haven:
Yale Nota Bene. ISBN 0-300-01959-9. OCLC 2968040).
Морфосемантический
анализ сонета 63.
Переведя фокус внимания к сонету 63, читателю стоит
обратиться к первому изданию Quarto 1609 года, а также архивным дискуссиям
критиков ("Shakespeare, William. Sonnets, from the quarto of 1609, with variorum
readings and commentary". Ed. Raymond MacDonald Alden. Boston: Houghton Mifflin,
1916), где указаны замены слов "шекспировских" сонетов, обратив внимание на
слова символы и знаки препинания оригинального текста.
Дело в том, что при
многочисленных правках редакторами и издателями изданий разных годов. В итоге,
все что мы имеем сегодня, а именно, тексты сонетов на страницах Википедии
вобрали в себя все эти "редакционные правки", которые исказили содержание
сонетов Шекспира последующих столетий за исключением первого издания
оригинального текста 1609 года.
По вполне очевидной причине критики и
редакторы не были в достаточной степени знакомы с содержанием многотомных эпосов
Гомера, или философскими идеями из толстенных фолиантов работ стоиков, которые
были прочитаны Шекспиром.
Но главное, подавляющее большинство критиков
остановились на версии личности бастарда Шекспира из Стратфорда-на-Эйвоне,
который был ростовщиком и продавцом солода, сыном ремесленника-перчаточника
Джона Шекспира. У которого не было материальных возможности обучиться, вместив в
себя настоль обширный запас знаний будь он, хоть "семь пядей во лбу".
Однако, возвратимся к семантическому анализу сонета 63, входящий в малую группу
сонетов 62-65. Как ни странно может показаться сонет 63 отчасти, как будто
вторит теме "продолжения рода" группы "Свадебных сонетов", "Marriage Sonnets"
(1-18), но затрагивает тему беспощадного персонифицированного божества Времени
из мифа, а также его "cruel knife", "жестокого клинка". Хотя, литературный образ
"cruel knife", "жестокого клинка" в контексте сонета 63, судя по всем признаками
является обобщающим. Так как Уильям Шекспир был придворным дворянином,
участвовавшим во многих дуэлях, в одной из них получил серьёзное ранение в
бедро, поэтому прихрамывал на одну ногу. Сонеты 63 и 64 объединяет образ "руки
Времени", в сонете 63 "сокрушающей руки" Времени, в сонете 64 "опустившейся"
руки, которая "обезобразила обильно горделивые расходы".
Конечно же, время
своей рукой ни коим образом не могло "обезобразила обильно горделивые расходы",
это всего лишь - поэтическая аллегория!
Характерной особенностью сонета
63, является то, что первое и второе четверостишия рассматриваемого сонета
соединены в одно многосложное предложение, которое состоит из нескольких
односложных. В ходе семантического анализа при разборе предложений для
удобочитаемости будет целесообразным использовать "шекспировское" правило "двух
строк".
"Aghast my love shall be, as I am now,
With time's injurious
hand crushed and o'erworn;
When hovers have drained his blood, and field his
brow
With lines and wrinkles; when his youthful morn
Hath travailed on to
Age's steepy night,
And all those beauties whereof now he 's King
Are
vanishing, or vanished out of sight,
Stealing away the treasure of his
Spring" (63, 1-8).
"Ошеломлённая моя любовь будет такой же, как Я -
сейчас,
Раздавленной и потрёпанной от сокрушающей руки Времени (тогда);
Когда парящие (Хораи) иссушат его кровь и поле его лба (подчас)
С линиями
морщин; когда его утро юношества,
Измученного возрастом погрузят в ночь (само
собой),
И всем этим красавицам, которым сейчас он - Король
Исчезнувших,
либо исчезающих с глаз долой,
Похитивших прочь, сокровище его Весны" (63,
1-8).
Стоит отметить, что оба четверостишия, и первое и второе написаны
поэтом в сослагательном склонении, где юноша, адресат сонете упомянут автором от
третьего лица, фактически вскользь, по касательной.
Возвращаясь к содержанию
мифа, необходимо акцентировать внимание на мифологическое ранжирование в
космизме богов Олимпа, где юные дочери Зевса и Фемиды; "seasons", "сезоны года",
"парящие" Хораи находились в полном подчинении у "бога Времени", получившем
олицетворение одновременно в бородатом античном Хроносе и юном стремительном
Кайросе, согласно сюжету мифа, взятого за основу языка аллегории при написании
сонетов.
"Aghast my love shall be, as I am now,
With time's injurious
hand crushed and o'erworn" (63, 1-2).
"Ошеломлённая моя любовь будет
такой же, как Я - сейчас,
Раздавленной и потрёпанной от сокрушающей руки
Времени (тогда)" (63, 1-2).
В строках 1-2, повествующий бард по ходу
риторического рассуждения пришёл к неутешительному выводу: "Ошеломлённая моя
любовь будет такой же, как Я - сейчас, раздавленной и потрёпанной от сокрушающей
руки Времени (тогда)". Разница в возрасте между поэтом и юношей порядка 17-ть
лет, безусловно ощутимо сказывалась на внешнем облике при сравнении поэта с
юношей. Поэт в сослагательном наклонении, предполагая описал как будет выглядеть
юноша в его возрасте.
Поскольку изложение риторических рассуждений в
сонете излагалось в сослагательном наклонении, то конечная цезура строки 2 была
мной заполнена наречием в скобках "тогда", разрешившим проблему рифмы строки. На
этом первое односложное предложение, состоящее из двух строк, заканчивается
точкой с запятой.
Строки 3-5 представляю собой два односложных предложения,
они разделены, а медиальной части строки 4 при помощи точки с запятой, однако,
они связаны по смыслу.
"When hovers have drained his blood, and field his
brow
With lines and wrinkles; when his youthful morn
Hath travailed on to
Age's steepy night" (63, 3-5).
"Когда парящие (Хораи) иссушат его кровь и
поле его лба (подчас)
С линиями морщин; когда его утро юношества,
Измученного возрастом погрузят в ночь (само собой)" (63, 3-5).
Со строк
3-4 начитается новое предложение, так как в предыдущих строках 1-2 речь шла об
юноше, которого бард облёк в аллегорическую метафору: "ошеломлённая любовь".
Характерно, но в строках 3-4, повествующий бард уже переносит направление
изложения на юношу, но от третьего лица, используя повторяющиеся личные
местоимения "his", "его" в качестве литературного приёма "ассонанс". Вполне
вероятно, что если юноше можно было бы показать наглядно, как он будет выглядеть
в глубокой старости, то увиденное им его, наверняка "ошеломило".
В строки
3-5 вместились два односложных предложения, причём, разделителем служит точка с
запятой в медиальной части строки 4. При рассмотрении строк 3-5 можно
обнаружить, что повествующий использовал приём "инверсия", то есть умозрительное
мгновенное перемещение во времени. Дополнительно им был применён литературный
приём "гипербола" для усиления написанного в этих строках: "When hovers have
drained his blood, and field his brow with lines and wrinkles; when his youthful
morn hath travailed on to Age's steepy night", "Когда парящие (Хораи) иссушат
его кровь и поле его лба (подчас) с линиями морщин; когда его утро юношества,
измученного возрастом погрузят в ночь (само собой)".
Краткая правка.
Гипербола (из древнегреческого: "переход; чрезмерность, избыток; преувеличение")
- стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения с целью усиления
выразительности и подчёркивания сказанной мысли. Например: "я говорил это тысячу
раз" или "нам еды на полгода хватит". При применении, литературный приём
"гипербола" зачастую сочетается с другими стилистическими приёмами, придавая им
соответствующую окраску: гиперболические сравнения, метафоры и т. д. ("волны
вставали горами"). Изображаемый характер или ситуация также могут быть
гиперболическими.
В строке 3 сонета 63, в свете изменившейся парадигмы,
мной была заполнена медиальная цезура словом в скобках "Хораи" перед
прилагательным "hovers", "парящие". Конечная цезура строки 3 была мной заполнена
наречием в скобках "подчас", установившим рифму строки.
Краткая справка.
Цезура (лат. "caesura", "рубка, срубание"; "рассечение, отсечение, отрубание"):
1. Ритмическая пауза в стихе, разделяющая стих на некоторое количество частей.
2. Граница смысловых частей картины, обозначенная композицией или контрастом
цветов, светотеней.
В классической греческой и латинской поэзии цезура - это
место, где одно слово заканчивается, а следующее начинается в пределах фута.
Напротив, соединение слов на конце ступни называется диэрезисом. Некоторые
цезуры являются ожидаемыми и представляют собой точку артикуляции между двумя
фразами или предложениями. Цезура, также описывается её положением в
стихотворной строке: цезура, расположенная рядом с началом строки, называется
начальной цезурой, одна в середине строки - медиальной, а одна в конце строки -
конечной. Начальная и конечная цезуры редко встречаются в формальном,
романтическом и неоклассическом стихах, которые предпочитают медиальные цезуры.
В строках 3-4 бард, говоря в повествовании об юноше от третьего лица трижды
использовал при написании личное местоимение "his", "его", что указывает на
применения литературного приёма "ассонанс".
"When hovers have drained his
blood, and field his brow
With lines and wrinkles; when his youthful morn"
(63, 3-4).
"Когда парящие (Хораи) иссушат его кровь и поле его лба
(подчас)
С линиями морщин; когда его утро юношества" (63, 3-4).
В
данном случае, повествующий поэт в строках3-4 с помощью приёма "ассонанса"
выделил и усилил содержание строк, описывая столь ужасающие события, которые,
возможно, произойдут в старости с "молодым человеком", адресатом сонета.
Краткая справка.
Ассонанс (фр. "assonance", от лат. "assono" - "звучу в
лад") - приём звуковой организации текста, особенно стихотворного: повторение
гласных звуков - в отличие от аллитерации (повтора согласных). "У наших ушки на
макушке! Чуть утро осветило пушки, и леса синие верхушки - французы тут как
тут". Как отметил Я. Зунделович, ассонанс, как и аллитерация, не только служит
целям самоценной выразительности поэтического текста, но и "выдвигает и
объединяет отдельные слова или их группы". Разновидностью ассонанса в некоторых
источниках считают ассонансную рифму, в которой созвучны только гласные, но не
согласные.
Акцентируя фокус внимания на риторическую модель изложения
сонета 63, хочу подчеркнуть ключевую роль аллегорической метафоры первой строки,
с которого начинается сонет: "Aghast my love...", "Ошеломлённая моя любовь".
Которая прямо указывала на влияние философских взглядов трактата "Идея Красоты"
Платона при создании сонета 63. Таким образом, оборот речи первой строки, с
которого начинается сонет 63, как будто подготавливает читателя к накалу эмоций,
потрясению чувств, вследствие, последующей рефлекторной реакции адресата сонета
после прочтения.
К примеру, предложение строк 4-5, стилистически прямо
указывает на верное направление изменившейся парадигмы, ибо строки требовали
наличия действующих лиц для того, чтобы они "его (юношу) погрузили в ночь". В
данном случае, этими действующими лицами выступают в качестве поэтического
образа персонифицированные "seasons", "сезоны года"; "hovers", "парящие" Хораи
из древнегреческого мифа.
"...when his youthful morn
Hath travailed on to Age's steepy night" (63, 4-5).
"...когда его утро юношества,
Измученного возрастом погрузят в ночь (само
собой)" (63, 4-5).
Конечная цезура строки 5 была мной заполнена оборотом
речи в скобках "само собой", который означает "само собой разумеется",
установившим рифму строки. Использование поэтом образа "погружения в ночь"
смерти сонета 63, указывает на применение приёма "аллюзия", предоставляя
очевидную ссылку на эпизоды гибели воинов Ахиллеса из эпоса "Одиссея" и "Илиада"
Гомера.
"And all those beauties whereof now he 's King
Are vanishing,
or vanished out of sight,
Stealing away the treasure of his Spring" (63,
6-8).
"И всем этим красавицам, которым сейчас он - Король
Исчезнувших,
либо исчезающих с глаз долой,
Похитивших прочь, сокровище его Весны" (63,
6-8).
В строках 6-8, повествующий поэт продолжил изложение от третьего
лица: "И всем этим красавицам, которым сейчас он - Король исчезнувших, либо
исчезающих с глаз долой, похитивших прочь, сокровище его Весны".
Особенностью фразы "Stealing... the treasure of his Spring", "Похитивших...
сокровище его Весны" является то, что повествующий изложил детали личной жизни
юноши, имея ввиду "всё время юности", проведённое в спальнях с прекрасными
придворными дамами, лучшими представительницами противоположного пола
"елизаветинской" эпохи.
- Но в конце концов, юноша имел возможность
самому делал свой выбор, ради своего удовольствия и своих партнёрш!
Несмотря на это, повествующий поэт таким образом укорял собственный, созданный
самим собой поэтический образ "Солнечного Апреля", "герольда аляпистой Весны",
оставляющего незабываемое впечатление с первого взгляда своим ярким и
харизматичным обликом. Который своим харизматичным обликом вдохновлял весь
литературный бомонд Лондона, а также придворных аристократов, принося с собой
свежую струю утреннего бриза и новых творческих идей в затхлую атмосферу
скучающего и праздного безделья при дворе.
"Stealing away the treasure of
his Spring.
For such a time do I now fortify
Against confounding Age's
cruel knife" (63, 8-10).
"Похитивших прочь, сокровище его Весны.
(исподволь)
Для такого времени, сейчас Я укрепляюсь, (покуда)
Наперекор
запутанному Веку жестокого клинка" (63, 8-10).
Конечная цезура строки 8
была мной заполнена после окончания предложения наречием в скобках "исподволь",
которое разрешило проблему рифмы строки. Это наречие, фактически относится к
следующей строке 9, таким образом оно входит в предложение следующей строки 9.
В строках 9-10, повествующий бард переходит к изложению об себе: "For such a
time do I now fortify against confounding Age's cruel knife", (исподволь) Для
такого времени, сейчас Я укрепляюсь, (покуда) наперекор запутанному Веку
жестокого клинка". В более ранних эссе поэтический образ "cruel knife",
"жестокого клинка" уже рассматривался, и поэтому нет необходимости
останавливаться на нём для более детального исследования.
"Against
confounding Age's cruel knife,
That he shall never cut from memory
My
sweet love's beauty, though my lover's life" (63, 10-12).
"Наперекор
запутанному Веку жестокого клинка,
Чтоб он никогда не обрезал из памяти
Моей милой любви красоту, хотя бы жизнь моей любви" (63, 10-12).
В
строках 10-12, повествующий поэт, рассуждая об "confounding Age's cruel knife",
"запутанном Веке жестокого клинка", вероятно, подразумевал один из острых
атрибутов персонифицированного "бога Времени", получившего олицетворение
одновременно в старом седовласом Хроносе и юном Кайросе, следуя содержанию
сонета 126, следуя сюжету, древнегреческого мифа.
Итак, строки 10-12,
связанные между собой, согласно замыслу автора, выглядят так: "Наперекор
запутанному Веку жестокого клинка, чтоб он никогда не обрезал из памяти моей
милой любви красоту, хотя бы жизнь моей любви". Следуя содержанию мифа, "бог
Времени", воплотившись в стремительного Кайроса мог принести моментально славу,
успех и богатство, либо в мгновение ока лишить жизни, промолвившего невзначай
его имя, обрезав в мгновение ока его "нить жизни". Поэтому в культуре эллинов не
было принято упоминать вслух Кайроса из-за опасений потерять жизнь во время
упоминания его имени.
В заключительном двустишии входящем в одно
предложение, согласно канону построения чисто английского "шекспировского"
сонета, автор сонета традиционно подводи черту вышеизложенному, обратившись в
поэтических строках от третьего лица к юноше, адресату сонетов. В строках 13-14,
повествующий продолжил изложение, сохраняя риторическую модель повествования
трех предыдущих строк, поддерживает диалектику предыдущего предложения.
"His beauty shall in these black lines be seen,
And they shall live, and he
in them still green" (63, 13-14).
"Его красота должна быть увидена в этих
чёрных линиях,
И они должны остаться жить, а он всё ещё свежим в них" (63,
13-14).
В строках 13-14, повествующий поэт применил литературный приём
"императив", таким путём утверждает Красоту юноши в заключительном напутствии:
"His beauty shall in these black lines be seen, and they shall live, and he in
them still green", "Его красота должна быть увидена в этих чёрных линиях, и они
должны остаться жить, а он всё ещё свежим в них".
Выводы: содержание
строк 13-14 прямо указывает на влияние философских взглядов "Идеи Красоты" и
"платоновского" космизма трактата "Закон Герметизма" Платона, а качестве
философского базиса, на который опиралась диалектическая надстройка, в виде
контекста сонета 63. Таким образом, время написания сонета группы сонетов 62-65
охарактеризовало Шекспира, как Поэта и Философа, что приблизительно совпадает со
временем написания пьесы "Утраченные труды любви".
Самуэль Тейлор
Кольридж акцентировал внимание на особенностях поступательных шагов в
формирования и утверждения в общественном сознании Уильяма Шекспира в качестве
драматурга, таким образом: "...to point out the union of the Poet and the
Philosopher, or rather the warm embrace between them, in the "Venus and Adonis"
and "Lucrece" of Shakespeare. ...passed on to "Love's Labours Lost", as the link
between his character as a Poet, and his art as a Dramatist; ...shewed that,
although in that work the former was still predominant, yet that the germs of
his subsequent dramatic power were easily discernible", "...отметил об
соединении в одном лице Поэта и Философа, или, скорее всего, на тёплые объятия
между ними в пьесах "Венера и Адонис" и "Изнасилование Лукреции", как первый
опыт Шекспира. ...Перейдя же к пьесе "Утраченные труды любви", подобно
связующему соединению между его характером Поэта и его мастерством, как
Драматург; ... показал, что хотя в этой работе по-прежнему первое главенствовало
над остальным, и всё же в его последующей драматической силе легко угадывались
зародыши потенциала". (Coleridge, Samuel Taylor: "Seven Lectures on Shakespeare
and Milton". By the Late S.T. Coleridge. A List of All Emendations in Mr.
Collier's Folio, 1632; and An Introductory Preface by J. Payne Collier).
(Примечание: для ознакомления читателем прилагаю критические дискуссии и
заметки, имеющие прямое отношения к сонету 63, которые могут заинтересовать
исследователей, занимающихся углублённым изучением наследия гения драматургии.
По этическим соображениям, текст предоставленного материала в ходе перевода
максимально сохранен, поэтому автор эссе не несёт ответственности за
грамматические сокращения, стилистику и пунктуацию ниже предоставленного
ознакомительного архивного материала).
Критические дискуссии и
заметки к сонету 63.
(Несмотря на то, что Дауден и Рольф говорили об этом
сонете, как о продолжении предыдущего, как мне показалось, однако, эта мысль
гораздо теснее связана с текстом S. 60, после которого Уолш его разместил в
своей собственной переработке. - Ed.).
Критик Герман Исаак (Hermann
Isaac) предложил сравнить, сославшись на фрагмент поэмы "Делия": (With this
sonnet Cf.! Daniel, Delia, 33):
"I once may see, when years may wreck my
wrong,
And golden hairs may change to silver wire".
and ibid., 37:
"When winter snows upon thy golden hairs".
"Однажды Я смогу увидеть,
когда годы разрушат мою неправоту,
И золотые волосы могут превратиться в
серебряную поволоку".
и там же, 37: "Когда зимой снег упадёт на твои
золотые локоны волос".
(Jahrb., 17: 182).
В строке 2 относительно оборота речи "injurious", "наносящий вред" критик Уолш
(Walsh): Cf.! "injurious time", "пагубное время", T. & C., IV, IV, 44, такая
фраза встречается в "Эндимионе" Лилли (Lilly's Endimion), I, I, и в переводе
Спенсера "Руины Рима" Беллея, 27 (Bellay's Ruins of Rome, 27).
В строке 2
относительно слова "crushed", "раздавленный" критик Джордж Стивенс (George
Steevens) продолжил защищать своё исправление слова "раздавленный" на том
основании, что можно выразиться сказав, что вещь сначала была "раздавлена", а
затем "изношена", что намного лучше, чем сказать о человеке, что он был вначале
убит, а затем ранен.
Критик Эдмонд Малоун (Edmond Malone) предложил свою
интерпретацию: "Раздавить" - это значит "ушибить" или "побить". Что же
получается в результате такого изменения?".
В строке 4 по поводу оборота
речи "lines and wrincles", "линии морщин" критик Флей (Fleay) предоставил для
сопоставления фрагмент произведения: Cf.! Drayton, S. 44, 2: "Age rules my lines
with wrinkles in my face", "Возраст определяет мои линии морщин на моём лице".
(Biog. Chron., 2: 227.) (Cf.! 2, 1-2; 19, 9; 60, 10. - Ed.).
Обсуждая
строку 5 по поводу оборота речи "steepy night", "погрузят в ночь" критик Эдмонд
Малоун (Edmond Malone) аргументировал свои выводов, так: "Когда-то я думал, что
поэт написал sleepy", "сонный". Но слово "travailed", "измученный", как мне
кажется, показывает, что старая копия верна, каким бы неуместным ни казался
эпитет "steepy", "отвесный или обрывистый". (Ср.! 7, 5-6, где объяснялось,
примерно так: подразумевалось под словом "steepy" "преклонный возраст" -
старость).
Критик Хэзлитт (Hazlitt) выражая свою точку зрения
предположил: "погружение в ночь" возраста - это пропасть "преклонного возраста",
с которой нам предстоит погрузиться во тьму смерти.
Критик Эдвард Дауден
(Edward Dowden): "...как пояснял Малоун, "steep-up heavenly hill", "небесный
холм с крутым подъёмом" из S. 7): "Youth and age are on the steep ascent and the
steep decline of heaven, "Юность и возраст находятся на отвесном подъёме и
отвесном закате небес".
Критик Сидни Ли (Sydney Lee) предоставил
существенные аргументы: "Ещё одно напоминание, взятое из переводов Голдинга
"Метаморфоз" Овидия (Ovid's Metam., bk. XV; 1612 ed., p. 186a): "Through
drooping age's steepy path he (i.e., man) runneth out his race". "По крутой
тропе увядающего века он (то есть человек) завершает его род".
В строке 9
относительно оборота речи "For such a time", "для такого времени" критик Генри
Чарльз Бичинг (Henry Charles Beeching): как некая отсылка к строке 1 этого же
сонета: "Against (the time when) my love shall be crush'd", "Наперекор (времени,
когда) моя любовь будет сокрушена ...т.д., и будет укрепляться".
Критик
Уильям Рольф (William Rolfe) апеллировал, предоставив для сопоставления фрагмент
пьесы: "Для непереходного употребления". (Cf.! 2 H. 4, I, III, 56: "We fortify
in paper and in figures", "Мы подтверждаем это на бумаге и в цифрах").
Критик
Сидни Ли (Sydney Lee) предложил для сравнения ссылку на поэму "Делия": (Cf.!
Daniel, Delia, S. 50, line 9-10):
"These are the ark, the trophies I
erect,
That fortify thy name against old age".
"Эти предметы: ковчег,
трофеи, что Я собираю,
Которые защитят твоё имя вопреки старости".
В
строке 10 относительно оборота речи "cruel knife", "жестокий клинок" критик
Тайлер (Tyler) сделал умозаключение: "...почти, как эквивалент косы (бога)
Времени".
Критик Брандес (Brandes) утверждая подчеркнул, что этот сонет и
последующие до 68-го не являются обращением (поэта) непосредственно к (юному)
другу; поэт пишет, как будто "...as tragic monologue to himself", "...как
трагический монолог самому себе" (p. XII).
(Структура сонета необычна тем,
что основные паузы во вступительной части происходят после строки 2, в середине
строки 4 и в конце строк 5 и 8. - Ed.). ("Shakespeare, William. Sonnets, from
the quarto of 1609, with variorum readings and commentary". Ed. Raymond
MacDonald Alden. Boston: Houghton Mifflin, 1916).
Сонет 100 был
присоединён к паре сонетов 64-63 в рамках этого эссе не случайно, дело в том,
что он имеет схожий образ "кривого клинка", в то время как в сонете 63
присутствует образ "cruel knife", "жестокого клинка", в обоих сонетах являющийся
атрибутом персонифицированного "бога Времени", получившего олицетворение
одновременно в седовласом старике Хроносе и юном Кайросе. Другой причиной
послужили слова-символы сонета 100, отмеченные "курсивом и заглавной буквой" в
тексте оригинала первого сборника сонетов Quarto1609 года, которые являясь
идентификационными маркерами и выражали космогонию греческой мифологии, которая
нашла своё отражение в строках сонетов Уильяма Шекспира.
Вне всякого
сомнения, образы древнегреческой мифологии в сонетах Шекспира, по не вполне
понятной причине редакторами последующих издание или "редактировались", путём
замены слов оригинала, либо игнорировались. Таким образом, выразительные и
необычайно колоритные образы древнегреческой мифологии, нашедшие своё место в
строках оригинального текста сонетов, в ходе изменений в оригинальных текстах
сонетов были окончательно "выхолощены", сведены на нет.
По прошествию времени
стало очевидным, что внесённые изменения редакторами нанесли значительный урон,
как литературно художественным достоинствам сонетов Шекспира, так и всему
творческому наследию поэта и драматурга. Подобная практика, стала служить
наглядным эталоном, которому стали следовать современные исследователи и
переводчики сонетов Шекспира, продолжающие использовать "упрощенческий" подход
при работе с творческим наследием поэта и драматурга "на все времена".
Но
главное, особенность сонетов заключалась в применение слов-символов, берущих
начало от поэтического аллегорического символизма Эдмунда Спенсера и Барнабе
Барнса, который в моей многолетней исследовательской работе стал служить ключом
для расшифровки до конца "непонятых" критиками сонетов Шекспира.
Известно,
что сонеты являлись частной перепиской, поэтому адресовались юноше, однако,
слова-символы сонетов Шекспира выполняли роль поэтических образов из
древнегреческой мифологии и представляли собой поэтическую традицию поэтов
"елизаветинской" эпохи. Таким образом, они декларировали своё чувство уважения и
почитания, восхищаясь незаурядной поэзией Эдмунда Спенсера и Барнабе Барнса.
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Where art thou, Muse, that thou forget'st so long
To speak of that which
gives thee all thy might?
Spend'st thou thy fury on some worthless song,
Dark'ning thy power to lend base subjects light?
Return, forgetful Muse, and
straight redeem
In gentle numbers time so idly spent;
Sing to the ear that
doth thy lays esteem
And gives thy pen both skill and argument.
Rise,
resty Muse, my love's sweet face survey,
If Time have any wrinkle graven
there;
If any, be a Satire to decay,
And make Time's spoils despised every
where.
Give my love fame faster than Time wastes life;
So thou prevent'st
his scythe and crooked knife.
- William Shakespeare Sonnet 100
_____________________________
2024 © Литературный перевод Свами Ранинанда, Уильям Шекспир Сонет 100
*
*
*
Где мастерство твоё Муза, какому разучилась так давно, (впустую)
Говоришь о том, кто дарует тебе - твою мощь? (опять)
Растрачиваешь ты свою
ярость на некую никчёмную песню,
Омрачающую твою силу, одалживая основы
тематик освещать?
Возвратись забывчивая Муза, и сразу же - выкупи (с честью)
За нежным перечислением Времени, так бездарно проведённом;
Спой на ухо, чтоб
сделать твои напевы почитаемыми (во всём)
И придать твоему перу оба: навык и
аргумент (словам).
Поднимись отдохнувшая Муза, милый облик обозри моей любви,
Коль Время располагает каждой морщинкой, высеченной там,
Если любой, то им к
распаду - Сатиром быть,
И сделай добычу Времени повсюду быть презираемой.
(при том),
Даруй моей любви быстрее славу, чем Время транжирит впустую жизнь,
Так чтоб предотвратила удар его косой, либо кривым клинком.
*
*
*
Copyright © 2024 Komarov A. S. All rights reserved
Swami Runinanda
Jerusalem 12.08.2024
_________________________________
(Краткая справка. В древнегреческой мифологии Сатир и Силен (Satyr and Silenus)
- это существа дикой природы, наполовину люди, наполовину звери, которые в
классические времена были тесно связаны с богом плодородия Дионисом. Их
итальянскими аналогами были "фавны" (see "Faunus"). Сначала сатиров и силенов
изображали в виде неотёсанных курносых мужчин, у каждого из которых был
лошадиный хвост и уши, а также эрегированный фаллос. В эпоху эллинизма сатиров
изображали в виде мужчин с козлиными ногами и хвостом. Появление двух разных
названий этих существ было объяснено двумя конкурирующими теориями: что "Силен"
был азиатским греком, а Сатир - именем одного из материковых мифических существ;
или же, что силены были наполовину лошадьми, а сатиры - наполовину козлами.
Однако, ни одна из этих теорий не нашла своего отражения в образцах раннего
искусства и литературы Греции.
Примерно с 5-го века до нашей эры имя Силен
стало применяться к приёмному отцу Диониса, что способствовало постепенному
вовлечению образов сатиров и силенов в дионисийский культ. На Великом фестивале
Дионисия в Афинах за тремя трагедиями последовала пьеса сатиров (к примеру,
"Циклоп" Еврипида), в которой хор был одет так, чтобы изображать сатиров. Где
силен возглавлял этот хор, и, хотя он носил нагрудник, как сатиры в сатирических
пьесах, впрочем, фигурировал в мифах и сказаниях, как распространитель житейской
мудрости.
В искусстве сатиры и силены изображались в компании нимф или менад,
которых они обычно преследовали. (Их любовные отношения с нимфами описаны ещё в
гомеровском гимне Афродите). Художники эллинистической эпохи развивали такую
концепцию ярко выраженных образов в сатирическом отображении полу животных, как
способ отвлечь почитателей от всего человеческого, таким образом их приобщить к
самой природе. Греческий скульптор Пракситель воплотил совершенно новый
художественный образ сатира, где он был молод и красив, но только с
незначительными признаками животного.
Дионис или Дионисий - в греко-римской
религии бог природы, плодородия и растительности, особенно известный как бог
вина и экстаза. Дионис был сыном Зевса и Семелы, дочери Кадма (царя Фив).
Дионисий обладал способностью вдохновлять и вызывать экстаз, и его культ имел
особое значение для искусства и литературы. Представления трагедии и комедии в
Афинах были частью двух праздников Диониса - Ленеи и Великой (или городской)
Дионисии. Дионисий, также прославлялся в лирических поэмах, называемых
дифирамбами. В римской литературе его природу часто неправильно понимают, и он
упрощённо изображается как весёлого Вакха, к которому взывают на вечеринках с
выпивкой. В 186 году до нашей эры празднование культа поклонения Вакху, в виде
организации публичных вакханалий в Италии было запрещено. Среди последователей
Дионисия были духи плодородия, такие как сатиры и силены, и в его ритуалах
фаллос занимал видное место. Дионисий часто принимал звериный облик и
ассоциировался с различными животными. Как правило сатир изображался с одним из
личных атрибутов, это были венок из плюща, тирс или кантарос, либо большой кубок
с двумя ручками, а также инструментом для исполнения весёлых мелодий: кифаром
или аулосом. В древнегреческом искусстве он изображался бородатым мужчиной, но
позже его стали изображать молодым и женоподобным. Вакхические празднества и
сатиры были излюбленной темой вазописцев). (This article was most recently
revised and updated by Adam Augustyn. Encyclopedia Britannica).
Сонет 100 - один из 154 сонетов, написанных английским драматургом и поэтом
Уильямом Шекспиром. Сонет 100 является частью последовательности "Прекрасная
юность", в которой поэт выражает свою приверженность чувству любви к молодому
человеку, как неземному идеалу Красоты, следуя философским воззрениям "Идеи
Красоты" Платона. Для сонета 100 характерным приёмом является "императив",
используемый при обращении поэта к персонифицированной Музе, где он требует от
неё, чтобы она "предотвратила удар косой, либо кривым клинком" Хроноса.
Структура построения сонета 100.
Сонет 100 - это чисто английский или
шекспировский сонет. Английский сонет состоит из трех четверостиший, за которыми
следует заключительное рифмованное двустишие. Она соответствует типичной схеме
рифмовки в форме ABAB CDCD EFEF GG и написана пятистопным ямбом, разновидностью
поэтического размера, основанного на пяти парах метрически слабых / сильных
слоговых позиций. Пятая строка иллюстрирует правильный пятистопный ямб:
# / # / # / # / # /
"Возвратись
забывчивая Муза, и сразу же - выкупи (с честью)" (100, 5).
/ = ictus,
метрически сильная слоговая позиция. # = nonictus.
/ #
# / # / # / # /
"Растрачиваешь ты
свою ярость на некую никчёмную песню" (100, 3).
В 3-й строке представлен
распространённый метрический вариант начального разворота, который также
присутствует в строках 4, 7 и, возможно, 9-ть.
/ # # /
/ # # / # /
"Даруй моей любви быстрее
славу, чем Время транжирит впустую жизнь" (100, 13).
Содержание 13-я
строки создает несколько сложный ритм, включающий изменение начальной и средней
строчек, а также два нетипичных ударения ("give", "даруй" и "wastes", "тратит").
(Lee, Sidney, ed. (1905). "Shakespeare's Sonnets: Being a reproduction in
facsimile of the first edition". Oxford: Clarendon Press. OCLC 458829162).
Морфосемантический анализ сонета 100.
Стоящий, согласно нумерации
сборника первого издания Quarto 1609 перед сонетом 100, необычайно яркий и
выразительный сонет 99, прежде всего выделяется своими аллегориями,
повествующими об "придворной жизни". Но его содержание подсказало мне, что с
сонета 100 начиналась новая группа сонетов, в которой поэт более детально
исследовал тему персонифицированного Времени и его тирании. Рассматривая,
основные аспекты чисто философского характера, переадресовывающих читателя на
труды Платона и Лукреция Кара.
Столь характерную особенность отметил и
выделил критиком Джордж Уиндхэм (George Wyndham) при написании Шекспиром
сонетов, приобщив к ним "Идею Красоты" Платона. Но, как ни странно, он оказался
единственным кто обнаружил эту характерную связь из всех участвовавших в
дискуссии. К примеру, при рассмотрении строки 3 сонета 31: "And there reigns
Love, and all Love's loving parts", "И там царствует Любовь, и Любви нежности во
всех частях", которая указывала на исходный первоисточник: "Where love reigns,
there's no need for laws", "Где царствует любовь, там нет надобности в законах",
или "Там, где царит любовь - нет законов", ныне крылатая фраза, которая была
изложена Платоном в I веке д. н. э., как основной тезис его философского труда
"Идея Красоты". ("Shakespeare, William. Sonnets, from the quarto of 1609, with
variorum readings and commentary". Ed. Raymond MacDonald Alden. Boston: Houghton
Mifflin, 1916).
Впрочем, отроду не читавшие и не имеющие никакого понятия
об трудах стоиков, а также мельчайших деталях хитросплетений древнегреческого
мифа, могут совсем неверно понять "шекспировские" сонеты 100-124. Входящие в
обширную группу, сонеты 100-124 изначально включали в себя малые подгруппы,
опосредованно связанные общей темой, включающей литературный образ
всепожирающего и неуловимого Времени.
И так, вплоть до сонета 125,
открывающего читателю глубочайший литературный образ "воображаемого балдахина"
поэта, который являлся при переходе "ab exterioribus ad interiora" - "от
внешнего к внутреннему" его "extern the outward honouring", "экспансией чести
наружного почитания" в первую очередь, как поэта и драматурга, а затем
придворного аристократа.
В свою очередь в сонетах 108-114 автором отчасти
затронута тема "extern the outward honouring", "экспансии чести наружного
почитания", и выражение чувства глубочайшей благодарности юноше с упоминанием
"the monarch's plague", "монаршей чумы", то есть льстивого публичного отзыва
королевы после премьеры одной из первых пьес Шекспира, где он этот отзыв назвал
"ядом" в сонете 114.
Там же поэт подтвердил неоценимую помощь и
поддержку, оказанную "молодым человеком" следующей фразой: "mind, being crown'd
with...", его "разум был увенчан с помощью..." юноши. Но после оглушительного успеха
одной первых пьес стал: "Drink up the monarch's plague", "Испившим, монаршей
чумы", то есть получил "льстивую публичную похвалу" самой королевы. Чтобы в
риторическом вопросе строки 9 сонета 115: "Alas, why, fearing of Time's
tyranny...", "Увы, отчего опасаясь тирании Времени..." вновь возвратиться к теме
тирании всемогущего и стремительного Времени.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 99, 1-8, 10-14
This text is
distributed for nonprofit and educational use only.
"The forward violet thus did I chide:
Sweet thief, whence didst thou steal
thy sweet that smells,
If not from my love's breath, the purple pride
Which on thy soft cheek for complexion dwells?
In my love's veins thou hast
too grossly dyed.
The Lillie I condemned for thy hand,
And buds of
marjoram had stol'n thy hair;
The Roses fearfully on thorns did stand" (99,
1-8).
William Shakespeare Sonnet 99, 1-8.
"Препровождающий фиалковый, поэтому упрекнул Я:
Сладкий вор, откуда ты украл
твою сладость, что благоухала,
Если не от моей любви, пурпурной гордыни
дыхание (алкая),
Что на твоих нежных щеках в лица оттенках обитало (исчезая)?
У моей любви венах ты тоже, чрезвычайно окрашенный.
Лилли, Я осуждённый от
твой руки (увы),
И завязи сухого майорана твои волосы похищали;
Розы,
наполненные страхом на шипах - стояли" (99, 1-8).
Уильям Шекспир, Сонет 99, 1-8.
(Литературный перевод Свами
Ранинанда 07.01.2023).
"And to his robbery had annex'd thy breath;
But, for his theft, in pride of
all his growth
A vengeful canker eat him up to death.
More flowers I
noted, yet I none could see
But sweet, or culler it had stol'n from thee"
(99, 10-14).
William Shakespeare Sonnet 99, 10-14.
"И к его ограблению, захватившая твоё дыхание (за ним);
Но, от его кражи в
гордыне во весь рост (впредь)
Мстительная червоточина до смерти заест его
(спустя).
Цветов куда более Я заметил, хотя Я никого не смог разглядеть
Но
сладость, или выборочность ей была похищена - у тебя" (99, 10-14).
Уильям Шекспир, Сонет 99, 10-14.
(Литературный
перевод Свами Ранинанда 07.01.2023).
Результаты сравнительного анализа прямо указывают на схожесть образов сонета 99
с образами поэтическими строк сборника "Календарь Шепарда": "Апрель" (Edmund
Spenser "The Shepherd's Calender") Эдмунда Спенсера, опубликованный в 1597 году.
В своём сборнике Спенсер называл Елизавету I обозначивший её словом-символом,
поэтическим псевдонимом "Cynthia", "Синтия". Впрочем, Ричард Барнфилд, когда
писал поэтическое произведение "Синтия" с другими сонетами в 1595 года,
по-видимому, подразумевал тоже самое.
Для ознакомительных целей и
сопоставления читателем с сонетом 99 Шекспира, любезно прилагаю фрагмент
перевода из сборника аллегорической поэзии Эдмунда Спенсера "Календарь Шепарда":
Апрель.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by Edmund Spenser "The Shepherd's Calender": April.
This
text is distributed for nonprofit and educational use only.
(A Note on
the Renascence Editions text: This html edition (May, 1996) of The Shepherd's
Calender is the second edition of that originally prepared in ASCII in 1993 by
Risa S. Bear from the John C. Nimmo facsimile (London, 1895) of the British
Museum copy of the first edition of 1579. A number of errors were found in the
first edition and have been corrected; it is to be hoped that new errors were
not introduced. Long "s" has been modernized, "vv" has been replaced by "w", and
catchwords have been omitted. Sixteenth century usage of "i" for "j" and of "u"
and "v" has been retained, along with the original spelling. Text found in the
original in
Greek has been transliterated within brackets. A few printer's errors have been
emended, also within brackets. The poems, which were originally in black letter,
have been romanized. "E. K." is notes in the original and in most editions are
arranged in hanging indent paragraphs; these have been reformatted and hyper
linked to the poems. The editor gratefully acknowledges the helpful comments of
Dr. G. William Rockett of the University of Oregon).
"See, where she sits vpon the grassie greene,
(O seemly sight)
Yclad in
Scarlot like a mayden Queene,
And Ermines white.
Vpon her head a Cremosin
coronet,
With Damaske roses and Dafadillies set:
Bayleaues betweene,
And Primroses greene
Embellish the sweete Violet".
Edmund Spenser "The Shepherd's Calender": April.
"Видишь, где она сидит на зелёной траве,
(О, настоль приличествующее зрелище)
Вы одеты в алое, словно девственная Королева,
И горностаи белые.
Над её
головой Сапфировая диадема,
В обрамлении Дамасских роз и Дельфийского набора:
Между ними лавровый лист,
И зелёные первоцветы
Украшающих нежнейший
Фиалковый".
Эдмунд Спенсер "Календарь Шепарда": Апрель
(Литературный
перевод Свами Ранинанда 07.09.2024).
(Примечание от автора эссе: "Календарь Шепарда" ("The Shepherd's Calendar") -
одно из первых крупных поэтических произведений Эдмунда Спенсера, опубликованное
в 1579 году. Поэтический сборник содержал двенадцать пасторально поэтических
эклога, пропорционально двенадцати месяцам года.
Содержание поэтического
сборника было посвящено королеве Англии Елизавете I, а также фрагментам
придворной жизни в подражание первому произведению Вергилия "Эклоги".
Поэтический сборник стихов "Календарь Шепарда" был написан с использованием
стиля "пасторального эклога", чтобы подчеркнуть непосредственную связь с
античной поэзией эпохи Возрождения, а также со строками "отца английской поэзии"
Джефри Чосера. На обложке поэтического сборника "Календарь Шепарда" Эдмунд
Спенсер написал хвалебную
эпитафию. В которой шевалье Филип Сидни удостоился всяческих похвал,
по-видимому, за материальную поддержку выхода в свет сборника "The Shepherd's
Calendar". Характерно, но в сборнике "Календарь Шепарда", "The Shepherd's
Calendar" в описании придворных сцен, автор использовал в качестве слова-символа
литературный псевдоним королевы Елизаветы I: "Cynthia", "Синтия". Текст
поэтического сборника был задуман и написан на "раннем новом английском" в знак
уважения и почитания поэзии Джефри Чосера.
Ранний современный английский или
ранний новый английский (англ. "Early Modern English или "Early New English,
ENE) - этап английского языка от начала тюдорского периода до английского
Междуцарствия и Реставрации, или от перехода от среднеанглийского, в конце XV
века, к переходу на современный английский примерно в середине-конце XVII века).
Рассматривая строки 3 сонета 35, критик Флей (Fleay) предложил версии
идентификаций по творческим псевдонимам, в следующей трактовке: образ "Moon",
"Луны", где "Синтия" - Елизавета ("Cynthia" - "Elizabeth"), а образ "Sunny",
"Солнечный" - (юноша) Саутгемптон (Southampton) (Cf.! S. 33, 14 and S. 34).
("Shakespeare, William. Sonnets, from the quarto of 1609, with variorum readings
and commentary". Ed. Raymond MacDonald Alden. Boston: Houghton Mifflin, 1916).
Поэтический сборник "Календарь Шепарда" Эдмунда Спенсера вошёл в известную
антологию Джона Боденхэма "Бельведер" (англ. Belvedere), наряду с пьесой
"Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира, а также поэтическим сборником "Аркадия
графини Пембрук" Филипа Сидни и стихами Мэри Сидни.
В следующем после
сонета 100, сонете 101 поэт в риторическом вопросе, направленном Музе, используя
излюбленный "императив" упрекает её: "O truant Muse, what shall be thy amends
for thy neglect?", "О, прогульщица Муза, каким будет твоё искупленье за твоё
пренебреженье?".
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by William Shakespeare Sonnet 101, 1-8, 10-14
This text is
distributed for nonprofit and educational use only.
"O truant Muse, what shall be thy amends
For thy neglect of truth in beauty
dyed?
Both truth and beauty on my love depends;
So dost thou too, and
therein dignified.
Make answer, Muse: wilt thou not haply say,
"Truth
needs no colour, with his colour fix'd;
Beauty no pencil, beauty's truth to
lay;
But best is best, if never intermix'd?" (101, 1-8).
William Shakespeare Sonnet 101, 1-8.
"О, прогульщица Муза, каким будет твоё искупленье
За твоё, истиной в
окрашенной красоте пренебреженье?
Обе, истина и красота от моей любви
зависят, ты учти;
Столь поступающий ты, и в том - величавости черты.
Ответь, Муза: быть может, не скажешь ли, ты,
"Истине не нужен цвет, фиксируя
с его окрасом иногда;
Красота не подтушёвка, красивую истину наложить,
Но
лучший - есть лучший, нежели не смешивать пока?" (101, 1-8).
Уильям Шекспир, Сонет 101, 1-8.
(Литературный
перевод Свами Ранинанда 17.10.2021).
"Excuse not silence so, for't lies in thee
To make him much outlive a gilded
tomb
And to be praised of ages yet to be.
Then do thy office, Muse; I
teach thee how
To make him seem long hence as he shows now" (101, 10-14).
William Shakespeare Sonnet 101, 10-14.
"Оправданье не молчанье, а значит заложено тобой,
Чтоб поставить на него
много, пережившего золочённую гробницу
И быть восхваляемым в веках ещё
предстоит подчас.
Тогда исполни свою службу, Муза; Я научу тебя, как (тебе к
лицу)
Сделать, чтоб он не казался таким далёким, как он покажется сейчас"
(101, 10-14).
Уильям Шекспир, Сонет 101, 10-14.
(Литературный перевод
Свами Ранинанда 17.10.2021).
Рассуждая в контексте основных выводов об сонете 100, стоит отметить его связь с
сонетом 101, согласно сюжетной линии в духе "Идеи Красоты" Платона. К тому же
оба сонета входят в последовательность сонетов "Прекрасная молодёжь", "Fair
Youth", включающую в себя сонеты 1-126, в них автор, ввиду отсутствия поблизости
"молодого человека" обратился непосредственно к Музе, в лице самого юноши.
Оба сонета, в тоже время входят в группу, состоящую из четырёх сонетов 100-103,
в содержании которых повествующий полностью переложил вину за своё поэтическое
молчание с себя на Музу, оправдываясь тем, что не писал вообще, а если бы
написал, то не столько, сколько ему хотелось.
Критик Джордж Уиндхэм
(George Wyndham) в дискуссиях, обсуждая сонет 100 подчеркнул влияние воззрений
"Идеи Красоты" Платона, что группа сонетов 100-125 была раскрыта автором после
продолжавшегося молчания, в ней поэт развил единственную затяжную атаку на
"Закон Перемен" (Law of Change), следующим образом: "In its survey it goes over
the old themes with a soft and silvery touch: Beauty and Decay, Love, Constancy,
the immortalizing of the friend's beauty conceived as an incarnation of Ideal
Beauty", "В этом своём обзоре (сонетов 100-125), он (Шекспир) обращается к
древнейшим темам с мягким и серебристым прикосновением (к философским
категориям) Красоты и её Увядания, Любви и Постоянства, увековечивающих красоту
(юного) друга, задуманной, как одно из воплощений Идеальной Красоты". (Intro.,
pp. CXIII-CXIV). ("Shakespeare, William. Sonnets, from the quarto of 1609, with
variorum readings and commentary". Ed. Raymond MacDonald Alden. Boston: Houghton
Mifflin, 1916).
Некоторые критики при исследовании этой группы сонетов
обратили внимание на характерные черты при их написании, дело в том, что автор
при написании сонетов 100-103 широко использовал классический риторический приём
"occupatio", это приём с предварительными декларированными, тематиками, которые
не подлежат обсуждению, либо пояснению причин возникновения.
Позиция
автора в сонетах 100-101 предложена в качестве, размерено расположенных вводных
малых групп сонетов 100-101, 63-68, 19, 21, 105, и так далее. Развивающих идею,
опирающуюся на "Идею Красоты" Платона с применением риторических составляющих,
входящих в "антитезу". Подаваемой автором на контрасте образов при рассмотрении
с различных позиционных риторических позиций. Где автор мастерски построил ряд
"антитез" на контрастах основного образа персонифицированного всеразрушающего
Времени в риторической форме с помощью литературного приёма, "императив" в
обращении к Музе и сопровождающей её Рифме.
Краткая справка.
Музы
(др.-греч., мн.ч. - "мыслящие") - богини в древнегреческой мифологии, дочери
бога Зевса и титаниды Мнемозины, либо дочери богини Гармонии, покровительницы
искусств и наук. Обитали на Парнасе. Кроме того, обителью муз считалась гора
Геликон в Беотии, где били священные ключи, источники вдохновения - Аганиппа и
Гиппокрена. Одно из первых упоминаний муз в классической литературе находится в
"Илиаде" и "Одиссее" древнегреческого поэта Гомера (XXIV: 60).
Примечательно, но "шекспировские" поэтические образы сонетов были выбраны не
случайно, строго следуя трактату "Идея Красоты" Платона, где гарантом
философской основы труда философа и теурга должна была выступать Муза, как
хранительница образа неземной "идеальной красоты" юного Саутгемптона, адресата
последовательности сонетов "Прекрасная молодёжь", "Fair Youth" сонеты (1-126).
Ранее приводимое упоминание из архивированной дискуссии 1916 года, давало
подтверждение, что большая группа сонетов 61-103, скорее всего была написана в
первой половине 1590-х годов и представлена в 1609 году в неизданном виде.
Совместно с двумя другими группами, 1-60 ("...written mainly in the first half
of the 1590s; revised or added to after 1600, perhaps as late as 1608 or 1609",
"...написана в основном в первой половине 1590-х годов; пересмотрена или
дополнена после 1600 года, возможно, в конце 1609 года, возможно, как ещё в 1608
или 1609 году") и 104-126 ("...written around or shortly after 1600",
"...написаны около или вскоре всего после 1600 года"). В совокупности, именно
они составили самый большой подраздел, известный нам, как сонеты
последовательности "Прекрасная молодёжь". (Shakespeare, William (2012). Hammond,
Paul (ed.). "Shakespeare's Sonnets: An Original-Spelling Text". Oxford; New
York: Oxford University Press).
Но, давайте возвратимся к семантическому
анализу сонета 100, в нескончаемом поиске новых находок во вселенной творческого
наследия поэта и драматурга. Хотя, неординарность сонета 100 заключается в том,
что первое четверостишие состоит из двух риторических вопросов обращённых от
первого лица к одной персонифицированных Муз, на том, всем известном Олимпе
среди других греческих богов.
Итак, первое четверостишие сонета 100
включает в себя два риторических вопроса, каждый из которых вмещает по две
поэтические строки. Для удобства рассмотрения текстов, обращённых к Музе в ходе
семантического анализа, предлагаю воспользоваться "шекспировским" правилом "двух
строк".
"Where art thou, Muse, that thou forget'st so long
To speak of
that which gives thee all thy might?
Spend'st thou thy fury on some worthless
song,
Dark'ning thy power to lend base subjects light?" (100, 1-4).
"Где мастерство твоё Муза, какому разучилась так давно, (впустую)
Говоришь о
том, кто дарует тебе - твою мощь? (опять)
Растрачиваешь ты свою ярость на
некую никчёмную песню,
Омрачаешь свою силу, одалживая основы тематик
освещать?" (100, 1-4).
В строках 1-2, повествующий бард в форме
"императива" обратился к Музе с риторическим вопросом: "Where art thou, Muse,
that thou forget'st so long, to speak of that which gives thee all thy might?",
"Где мастерство твоё Муза, какому разучилась так давно, (впустую) говоришь о
том, кто дарует тебе - твою мощь?".
Конечная цезура первой строки была мной
заполнена наречием в скобках "впустую", обозначающим признак действия, что
разрешило проблему рифмы строки. Стоит обратить внимание на то, что при переводе
на русский в конце строки 1, была проставлена запятая, таким образом, чётко
обозначив, наречие заполненной цезуры первой строки соотносится к односложному
предложению второй строки. И читается, так: "(впустую) говоришь о том, кто
дарует тебе - твою мощь?". Конечная цезура строки 2 была мной заполнена наречием
в скобках "опять", установившим рифму строки, по смыслу соответствующее тексту
следующей строки 3.
Подстрочник первого и второго риторических вопросов
сонета 100 служит подсказкой, что поэтический образ персонифицированной Музы из
мифа прямо связан с юношей, адресатом сонета, это - во-первых.
Во-вторых,
повествующий бард при обращении к Музе предъявляет несколько претензий в
ироническом тоне. Из чего можно сделать заключение, что
Муза ранжирована
автором сонета 100 на более низший ранг, чем сам юноша. Ввиду того, что
претензии, предъявленные автором сонета в двух риторических вопросах первого
четверостишия в обращении к Музе, в действительности были адресованы юноше.
Однако, в рамках ранжирования, Муза в конечном счёте, по замыслу автора "должна
была, как бы передать эти претензии юноше". При том, что сонет 100, входящий
непосредственно в последовательность сонетов "Прекрасная молодёжь", по умолчанию
адресован юному Саутгемптону.
В таком случае, при вероятных издержках в
творческом застое при длительном бездействии поэт возложил ответственность на
персонифицированную Музу, но не на юношу, о котором поэт упоминал по касательной
проявляя заботу, требуя у Музы об распаде Сатиром морщин "молодого человека" в
третьем четверостишии.
"Spend'st thou thy fury on some worthless song,
Dark'ning thy power to lend base subjects light?" (100, 3-4).
"Растрачиваешь ты свою ярость на некую никчёмную песню,
Омрачаешь свою силу,
одалживая основы тематик освещать?" (100, 3-4).
В строках 3-4,
повествующий продолжил риторику в том же духе, как в предыдущих строках и задал
второй вопрос: "Spend'st thou thy fury on some worthless song, dark'ning thy
power to lend base subjects light?", "Растрачиваешь ты свою ярость на некую
никчёмную песню, омрачаешь свою силу, одалживая основы тематик освещать?".
Оборот речи строки 3: "Spend'st thou thy fury", "Растрачиваешь ты свою ярость"
контексте строки следует принимать более шире примерно, как: "растрачиваешь свою
одержимость во вдохновении", что указывает на то, что во время написания сонета
юноша был занят, вполне вероятно, верификацией песни, либо баллады другого
автора.
Невзирая на это, строка 4 подтверждает предыдущее строки, лишь
дополняя тем, что автор, которому оказывал творческое содействие юноша был
неопытен на поприще литературы и поэзии в вопрошающей ремарке: "Dark'ning thy
power to lend base subjects light?", "Омрачаешь свою силу, одалживая основы
тематик освещать?".
Хочу отметить, что второе четверостишие представляет
собой одно многосложное предложение, состоящее из нескольких односложных. В
которых повествующий поэт использовал форму обращения "императив", не просит
смиренно, а требует у Музы возвратиться и искупить свою вину, столь
продолжительного своего творческого молчания.
"Return, forgetful Muse,
and straight redeem
In gentle numbers time so idly spent;
Sing to the ear
that doth thy lays esteem
And gives thy pen both skill and argument" (100,
5-8).
"Возвратись забывчивая Муза, и сразу же - выкупи (с честью)
За
нежным перечислением Времени, так бездарно проведённом;
Спой на ухо, чтоб
сделать твои напевы почитаемыми (во всём)
И придать твоему перу оба: навык и
аргумент (словам)" (100, 5-8).
В строках 5-6, повествующий бард при
помощи литературного приёма "императив" опосредованно обратился через Музу к
юноше: "Return, forgetful Muse, and straight redeem in gentle numbers time so
idly spent", "Возвратись забывчивая Муза, и сразу же - выкупи (с честью) за
нежным перечислением Времени, так бездарно проведённом".
Поэт в
деликатной форме, как будто обращаясь к Музе, намёками даёт знать юноше
возвратиться к нему для совместного творческого сотрудничества. Искромётный
юмор, присущий только Шекспиру, буквально пронизывает все строки сонета 100.
Конечная цезура строки 5 была мной заполнена оборотом речи в скобках "с честью",
органически вписавшимся в "шекспировскую" свободную строку. Характерно, но
заполнение конечной цезуры строки 5, установило рифму строки.
"Sing to
the ear that doth thy lays esteem
And gives thy pen both skill and argument"
(100, 7-8).
"Спой на ухо, чтоб сделать твои напевы почитаемыми (во всём)
И придать твоему перу оба: навык и аргумент (словам)" (100, 7-8).
В
строках 7-8, повествующий проложил лёгкое ироническое обращение к Музе: "Sing to
the ear that doth thy lays esteem and gives thy pen both skill and argument",
"Спой на ухо, чтоб сделать твои напевы почитаемыми (во всём) и придать твоему
перу оба: навык и аргумент".
Аналогично звучащие на окончании слова на
языке оригинала "doth" и "both" в строках 7-8, указывают на применение автором
сонета литературного приёма "ассонанс", что подчёркивает иронический тон автора
при прочтении этих строк.
Конечная цезура строки 7 была мной заполнена
оборотом в скобках "во всём", установившим рифму строки. Конечная цезура строки
8 была заполнена словом в скобках "словам", также установившим рифму строки.
Третье четверостишие, представляющее собой многосложное предложение, в которое
входят односложные. Форма "императива" характерная для "шекспировских" сонетов
при обращении к персонифицированным мифологическим персонажам нашла широкое
применение в строках 9-12 третьего четверостишия.
"Rise, resty Muse, my
love's sweet face survey,
If Time have any wrinkle graven there;
If any,
be a Satire to decay,
And make Time's spoils despised every where" (100,
9-12).
"Поднимись отдохнувшая Муза, милый облик обозри моей любви,
Коль Время располагает каждой морщинкой, высеченной там,
Если любой, то им к
распаду - Сатиром быть,
И сделай добычу Времени повсюду быть презираемой"
(100, 9-12).
В строках 9-11, повествующий поэт требует у Музы, чтобы она
решила проблему морщин юноши, подключив содействии "бога Времени" и Сатира:
"Rise, resty Muse, my love's sweet face survey, if Time have any wrinkle graven
there; if any, be a Satire to decay", "Поднимись отдохнувшая Муза, милый облик
обозри моей любви, коль Время располагает каждой морщинкой, высеченной там, если
любой, то им к распаду - Сатиром быть".
Согласно сюжету мифа, Муза,
будучи дочерью великого Зевса, главного бога Олимпа, вполне могла попросить
Хроноса, чтобы он дал указание Сатиру убрать морщины с лица "молодого человека",
адресата сонета. Автор сонета 100 связал и выделил содержание строк 10-11 с
помощью литературного приёма "аллитерация", применив в начале каждой строки
подчинительный союз "If".
Краткая справка.
Аллитерация - это повторение одинаковых или однородных согласных частиц или
предлогов в начале стихотворной строки, придающее тексту особую звуковую
выразительность, особенно в стихосложении. Подразумевается большая, по сравнению
со средне языковой, частотность этих звуков на определённом отрезке текста или
на всём его протяжении. Об аллитерации не принято говорить в тех случаях, когда
звуковой повтор появляется, вследствие повторения морфем. Словарным видом
аллитерации является тавтограмма.
В строке 12, повествующий продолжил
"императив" предыдущих строк, значительно повысив планку требований в обращении
к Музе: "And make Time's spoils despised every where", "И сделай добычу Времени
повсюду быть презираемой". Автор сонета 100, искренне предлагает Музе втихомолку
троллить "бога Времени", уподобившись современному китайскому производителю,
заполонившим полки бутиков на всему миру некачественными подделками знаменитых
брендов.
В заключительных двустишии традиционное прямое обращение от
первого лица к юноше повествующим поэтом, полностью отсутствует. Юноша
упоминается бардом по касательной, чтобы Муза даровала побыстрее ему славу и
"предотвратила удар его косой (Хроноса), либо кривым клинком" Кайроса. Впрочем,
автор сонета 100, одержимый идеей сохранения и увековечивания красоты и жизни
юноши снова переносит "императив" обращения к Музе, следуя философским
воззрениям "Идея Красоты" Платона.
"Give my love fame faster than Time
wastes life;
So thou prevent'st his scythe and crooked knife" (100, 13-14).
"Даруй моей любви быстрее славу, чем Время транжирит впустую жизнь,
Так чтоб
предотвратила удар его косой, либо кривым клинком" (100, 13-14).
В
строках 13-14, повествующий бард продолжил обращаться к Музе, относительно славы
и продолжительности жизни юноши: "Give my love fame faster than Time wastes
life; so thou prevent'st his scythe and crooked knife", "Даруй моей любви
быстрее славу, чем время транжирит впустую жизнь, так чтоб предотвратила удар
его косой, либо кривым клинком".
Бард, буквально требует более ощутимой
протекции от Музы, относительно юноши, но в этом требовании поэт указывает на
черту характера присущую "молодому человеку", это то, что он "транжирит впустую
(свою) жизнь". Повествующий требует, чтобы Муза предотвратила случайный или
намеренный удар косой Хроносом, либо "либо кривым клинком" Кайросом.
(Примечание: для ознакомления читателем прилагаю критические дискуссии и
заметки, имеющие прямое отношения к сонету 100, которые могут заинтересовать
исследователей, занимающихся углублённым изучением наследия гения драматургии.
По этическим соображениям, текст предоставленного материала в ходе перевода
максимально сохранен, поэтому автор эссе не несёт ответственности за
грамматические сокращения, стилистику и пунктуацию ниже предоставленного
ознакомительного архивного материала).
Критические дискуссии и
заметки к сонету 100.
Критик Эдвард Дауден (Edward Dowden) пояснил:
"Написал о себе, что после перерыва в написании сонетов, во время которого Sh.
стал занимался творчеством, - начал писал пьесы для публики, как я полагаю,
вместо стихов для своего (юного) друга".
Критик Джордж Уиндхэм (George
Wyndham) аргументировал следующим образом: "Группа сонетов 100-125 открывается
после долгого молчания, ...и поэт развивает в ней единственную продолжительную
атаку на Закон Перемен (Law of Change)", он продолжил: "In its survey it goes
over the old themes with a soft and silvery touch: Beauty and Decay, Love,
Constancy, the immortalizing of the friend's beauty conceived as an incarnation
of Ideal Beauty", "В этом своём обзоре (сонетов 100-125), он (Шекспир)
обращается к древнейшим темам с мягким и серебристым прикосновением (к
философским категориям): Красоты и её Увядания, Любви и Постоянства,
увековечивающих красоту (юного) друга, задуманной, как одно воплощений Идеальной
Красоты". (Intro., pp. CXIII-CXIV).
Критик Батлер (Butler) высказал свою
точку зрения: (Сонет, по-видимому, был написан) "...после значительного
перерыва, в течение которого Sh. нашёл другие вещи, о которых можно было
написать, но все же (как это могло бы показаться) не отойдя от драматургии". (С
помощью темы молчания и оправдания, приведённых в следующем сонете. Cf.! S.
83-85. - Ed.).
В строке 1, рассуждая об обороте речи "so long", "так
долго" критик Генри Чарльз Бичинг (Henry Charles Beeching) указал срок, дав
ссылку на текст другого сонета: "Три года; (see S. 104, 3)".
Относительно
строки 2 критик Тайлер (Tyler) сослался на сопоставление на со строкой другого
сонета: Cf.! S. 78, 13.
В строке 3, говоря об обороте речи "thy fury", "твою
ярость" критик Шмидт (Schmidt) комментируя дал для сравнения фрагмент из пьесы:
"Восторженность воображения. (Cf.! L. L. L., IV, III, line 229: "What zeal, what
fury hath inspir'd thee now?", "Какое рвение, какая ярость вдохновили тебя
ныне?").
Критик Генри Чарльз Бичинг (Henry Charles Beeching) дополнил:
"...слово, заимствованное у классиков и используемое ими, как символ
профетического вдохновения, заложенного в бесполезную песню".
Критик мисс
Потер (Miss Porter) охарактеризовала тематические различия сонета, сравнив с
предыдущими: "Последовательность сонетов (86-96), приведённая выше,
соответствует описанию, как "затемняющая" силу и проливающая свет на "низменные
темы", то есть на ложь и недоверие к любви".
По поводу содержания строки
8 критик Сидни Ли (Sydney Lee) предоставил фрагмент для сопоставления: Cf.!
Ronsard, Amours, II, 12: "Ma plume sinon vous ne scait autre sujet", "Я
чувствую, что ты одинок, но не уверен в себе" и т.д. (Приняв за "argument",
"аргумент". Cf.! note on S. 38, 3).
В строке 9, обсуждая слово "resty",
"отдохнувшая" критик Шмидт (Schmidt) комментировал и дал ссылку на фрагмент
пьесы: "Застывшая от чрезмерного отдыха, вялая". (Cf.! Edw. III, III, III, line
161-162):
"And presently they are as resty-stiff
As 't were a many
over-ridden jades".
"И в настоящее время они столь от отдыха застывшие
Как и множество излишне перегруженных кляч".
Критик Дайс (Dyce)
(цитировал латинский словарь Коулза (1677), как предоставляющий равнозначное
определение слову "отдохнувшая": "resty" = "piger-lentus", "по-свински
медлительная").
Критик Тайлер (Tyler) дополнил, сравнив с другим сонетом:
(защищая исправление "uneasy", "restive", "неловкий, "беспокойный"), как
эквивалент "беспокойного"; "in aimless motion", "в бесцельном движении";
"wandering", "блуждающая". Cf.! "truant Muse", "Муза-прогульщица" S. 101, 1.
Предоставив объяснение, примерно так: "Муза Sh. не знающая покоя" (lines 3-4).
(Тайлер также обсуждал этот вопрос в N. & Q., 8th s.,2: 283; and C. C. B.
(ibid., 4: 444) (там же, 4: 444), где приводилось два примера слова "для Папы с
Хатчетом" (Pappe with an Hatchet), что означало "uneasy, liable to bolt",
"беспокойный, склонный к побегу").
Критик Джордж Уиндхэм (George Wyndham)
подробнейшим образом дал пояснение: "Применялся термин "манеж" для лошади,
демонстрирующей порок, который теперь называется "jibbing", "подтрунивание".
(Из рецензии в "Зрителе", 15 августа 1891 г., стр. 231 (Spectator, Aug. 15, 1
891, p. 231), где он цитировал рассказ об "correction to be used against
restiveness", "коррекции, применяемой против упрямства", который появился в
книге Флэтмена в 1597 году (Flatman, 1597). В ней приводился следующий вывод:
"The shrill crie of a hedgehog being strait tied by the foot under the horse's
tail is a reminder of like force, which was proved by maister Vincentio Respino,
a Neapolitan, who corrected by this means an old restive horse of the King's in
such sort, as he had much ado afterwards to keep him from the contrarie vice of
running away", "Пронзительный крик ежа, которого крепко привязывали за ногу под
хвостом лошади, являлся напоминанием о подобной силе, что было достоверно
доказано мастером Винченцио Респино, неаполитанцем, который таким образом привёл
в порядок старую норовистую королевскую лошадь, поскольку у него было в
распоряжении много возможностей, а затем постарался удержать его (ежа) от
диаметрально противоположного порока, чтобы дать возможность сбежать
прочь".
Непосредственно в N. E. D. раздела об соответствии со словом
"отдохнувшая" цитировался в тезаурусе Купера (Cooper's Thesaurus, 1565): "Restie
and slow from lack of use", "Отдохнувшая и медлительная из-за отсутствия
использования").
Комментируя содержание строк 10-11 критик Батлер
(Butler) предложил свои умозаключения: Эти строки наводят на мысль, что "Mr. W.
H." обладая приятной внешностью начинал раздражаться, хотя и не так сильно, как
было описано в первых строках S. 104, или заключительных строк S. 108.
В
строке 11, обсуждая слово "Satire", "Сатир" критик Уокер (Walker) за своим
предположением предоставил боле удачный фрагмент для сопоставления: "Сатирик".
(Cf.! Jonson, Poetaster, V, I: "The honest satyr hath the happiest soul", "У
честного сатира самая счастливая душа").
Критик Шмидт (Schmidt), с другой
стороны, приводил это слово в качестве безличного существительного и
комментировал оборот речи "make Time's spoils despised every where", "сделай
добычу Времени повсюду быть презираемой" строки 12; и другие современные
примеры. (В сонетах 63-64 - лучший комментарий к этой фразе. - Ed.).
По
поводу строки 14, обсуждая оборот речи "So thou prevent'st", "Дабы ты
предотвратила" критик Джордж Стивенс (George Steevens) апеллировал, следующим
образом: "By anticipation hinderest", "Предвосхищать, трудней всего".
Критик Шарп (Sharp): "This sonnet may ...afford a clue towards dating this
section of the sequence, for it may contain a reference to the Dark Woman
series: here Sh. may have noted his turning away from the deceitful love of an
evil woman". ..."Instead of wasting thy poetic enthusiasm ... in casting a
glamour over base subjects", "Этот сонет может... дать ключ к датировке этой
части последовательности, поскольку в нём может содержаться отсылка к серии
"Тёмной Леди": здесь Шекспир, вполне вероятно, отметил, что он отвернулся от
лживой любви женщины-зла", ..."вместо того, чтобы растрачивать свой поэтический
энтузиазм... наводя очарование на низменные субъекты" и т.д. ("Casting a
glamour", "Наводить очарование" - это чересчур неординарная фраза для сонетов, в
которых изображена Тёмная Леди!" - Ed.).
("Shakespeare, William. Sonnets,
from the quarto of 1609, with variorum readings and commentary". Ed. Raymond
MacDonald Alden. Boston: Houghton Mifflin, 1916).
Символизм сонета
100 и образ "Сатира", как традиция сатирической пьесы, преемственность
слов-символов в сонетах Шекспира.
Возвращаясь к рассмотрению творческого
наследия Уильма Шекспира, как поэта и драматурга, хочу переместить фокус
внимания к источникам его нескончаемого искромётного юмора в комедиях, как
поэтической формы обращения к традициям древнегреческой драмы, которая в особых
случаях преподносилась зрителям, как своего рода "шутливая трагедия".
Где
актёры на сцене играли мифологических героев, действия которых происходит по
мотивам традиционных сюжетов греческих мифов.
Наглядным примером может
служить пьеса Шекспира "Сон в летнюю ночь", "A Midsummer Night's Dream".
Сатирическая пьеса - это жанр классической древнегреческой драмы, в которой были
сохранены структура сюжета и персонажи трагедии, но при этом создавалась весёлая
атмосфера с сельским антуражем мизансцен.
Пьесу жанра "сатиры" можно с полным
правом считать формой обращения к аттической трагедии, своего рода "шутливой
трагедии", где актёры играли мифологических героев, действия которых происходит
по мотивам традиционных сюжетов греческих мифов, но где хористы пьесы являются
сатирами, которыми руководит старый Силенус (Silenus). В пьесе сатиры в качестве
действующих лиц отображались духами Природы, которые сочетали в себе мужские
черты человека (бороды, волосатые тела, приплюснутые носы и эрегированный
фаллос) с ушами и хвостами лошадей. В ходе пьесы Сатиры своими танцами, любовью
к вину и веселыми шутками, чаще выраженными низким языком, создавали контраст по
сравнению с главными героями, которые более или менее серьёзны. Эти контрасты,
создающие "антитезу", по сути являясь отличительной чертой сатирической драмы,
что способствовало ослаблению эмоционального напряжения зрителей трагической
трилогии.
Обычно считается, что сатирические пьесы были представлены сразу
после трагической трилогии, как четвертая пьеса на конкурсах; они регулярно
значатся четвертыми в списках пьес, поставленных в Большом амфитеатре, Дионисия
в Афинах (Great Dionysia in Athens). Однако некоторые сатирические пьесы Эсхила
(Aeschylus), по-видимому, имели более значимые смыслы в качестве второй пьесы
группы, например "Сфинкс" (Sphin) в его фиванской трилогии и "Протей" (Proteus)
в "Орестее" (Oresteia). Следуя традиции, Пратинас из Флиуса (Pratinas of Phlius)
был первым, кто поставил сатирическую пьесу в Афинах на 70-й Олимпиаде (499-496
до н.э.).
Под влиянием комедии возрастающая искушённость афинской публики
снизила потребность в сатирических пьесах для создания комического эффекта, как
это видно из "Алкестиды" (Alcestis) (438 г. до н.э.), четвертой драмы Еврипида
(Euripides), в которой почти полностью отсутствовали традиционные черты жанра
сатиры. Сохранилась только одна традиционная сатирическая пьеса - "Циклоп"
Еврипида (Euripides Cyclops). Однако при обнаружении папирусов были обнаружены
значительные фрагменты других рукописей, особенно "Диктюльчи" (Dictyulci) ("Сети
Рыбаков", "Net Fishers") Эсхила (Aeschylus) и "Ихнеуты" (Ichneutae)
("Следопыты", "Trackers") Софокла (Sophocles).
Возможно повторюсь,
утверждая, что драматургический гений Шекспира не мог возникнуть на пустом
месте. Так как, поэзия таких выдающихся поэтов "елизаветинской" эпохи, как
Барнабе Барнс и Эдмонд Спенсер, оказала непосредственное влияние, как на поэзию,
так и драматургию Шекспира.
Поэтому для ознакомительных целей и сравнения
читателем любезно прилагаю сонет 55 из "Партенофил и Партенофа" Барнабе Барнса.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by Barnabe Barnes "Parthenophil and Parthenophe", Sonnet LV
This text is distributed for nonprofit and educational use only.
(This
text is based on Sidney Lee's edition of 1904, Elizabethan Sonnets, An English
Garner. Some of the capitalisation of words given by Lee has been ignored, and
punctuation has been modernised where a change would appear to assist the sense
and comprehension for a modern reader. These alterations, as being too minimal,
have not been recorded. All alterations of a more substantial nature which have
been made are however detailed in the notes below).
SONNET LV.
Nymphs, which in beauty mortal creatures stain,
And Satyrs,
which none but fair Nymphs behold;
They, to the Nymphs; and Nymphs to them,
complain:
And each, in spite, my Mistress' beauty told.
Till soundly
sleeping in a myrtle grove,
A wanton Satyr had espied her there;
Who
deeming she was dead, in all haste strove
To fetch the Nymphs; which in the
forests were.
They flocking fast, in triumph of her death,
Lightly beheld:
and, deeming she was dead.
Nymphs sang, and Satyrs danced out of breath.
Whilst Satyrs, with the Nymphs La Voltas led;
My Mistress did awake! Then,
they which came
To scorn her beauty, ran away for shame!
Barnabe Barnes "Parthenophil and Parthenophe", Sonnet LV.
Нимфы, которых красоту пятнают смертные создания,
И Сатиры, на коих никто,
кроме прекрасных Нимф не созерцал;
Они на Нимф, а Нимфы на них:
И всякий в
злобе об красоте моей Госпожи рассказывал.
Покуда в миртовой роще беспробудно
спящую,
Распутный Сатир заприметил её там;
И решил, что она мертва, со
всех ног бросился
Чтоб привести Нимф, которые были в лесах.
Они быстро
устремились, к триумфу её смерти,
Слегка посматривая и решившие, что она
умерла.
Нимфы запели, а сатиры танцевали, запыхавшись.
В то время как
Сатиры с Нимфами "Ла Вольту" вели;
Моя Госпожа на самом деле пробудилась!
Затем все те, кто пришёл
Пренебрегая её красотой, разбежались прочь от стыда!
Барнабе Барнс "Партенофил и Партенофа", Сонет 55.
(Литературный
перевод Свами Ранинанда 14.08.2024).
(Примечание от автора эссе: слово
"La Voltas", "Ла Вольта" или вольта (итал. volta, от итал. voltare -
поворачивать; фр. volte) - парный (мужчина и женщина) танец эпохи Возрождения,
при исполнении которого мужчина выполняет элемент поддержки - вертит в воздухе
танцующую с ним женщину (отсюда романская основа названия). Темп быстрый либо
умеренно быстрый, размер 3-дольный. Возник предположительно в XVI веке.
Относится к категории так называемых "высоких танцев", противопоставляемых менее
оживлённым "низким танцам". Началу танца предшествует поклон мужчины и реверанс
женщины. Требует от мужчины большой силы и ловкости, так как основной рисунок
танца - подъём женщины в воздух - должен выполняться очень высоко, при этом
чётко и красиво. Описание вольты встречается как в самых ранних, так и более
поздних исследованиях. Туано Арбо, например, называет вольту "провансальским
танцем", считая, что она происходит от гальярды. В некоторых источниках вольту
именуют "гальярдной вольтой", хотя темп вольты медленнее темпа гальярды).
Предыдущие исследования нескольких последних лет показали, что поэтом-соперником
сонетов Шекспира, на самом деле являлся Барнабе Барнс.
Уильям Шекспир в
сонете 35 в строке 3 не случайно упомянул юного Саутгемптона, назвав его
псевдонимом "Солнечный" в среде литературных салонов: "Clouds and eclipses stain
both Moon and Sunny", "Облака и затмения испачкали обоих: Луну, и Солнечного".
"Even so my Sunne one early morn did shine
With all-triumphant splendor on my
brow,
But out, alack! he was but one hour mine" (33, 9-11).
Ровно
также, как мой Солнечный одним ранним утром засиял
С всепобеждающим блеском
на моём челе (одухотворял);
Но прочь, увы! Он был моим, только на один час
(оставался)" (33, 9-11).
Этот же псевдоним в виде слова-символа можно
встретить в поэтическом посвящении сонета 35 не только у Шекспира, но и в
поэтике Барнабе Барнса, при внимательном рассмотрении строки 2 сонета 49 из
лирического сборника "Партенофил и Партенофа": "O sunne, no sonne but most
vnkinde stepfather, by law nor nature fier but rebell rather", "О солнечный, не
сын, но зато наибольше чем добрый отчим, по закону ни природы пламенной, только
скорее - бунтарь".
Мне показался необычайно странным тот факт, что эти и
многие другие находки при раскрытии неисчерпаемого многообразия граней
творческого наследия поэта и драматурга не вызвали какой-либо ощутимой реакции у
многочисленных "знатоков" и поклонников Шекспира. Именно, там, где они
беспрестанно твердили "сакральную мантру", заверяя всех вокруг об невероятно
большой любви к русскому языку.
Впрочем, давайте переведём фокус внимания
к одному из сонетов поэта-соперника, аж самого Уильяма Шекспира. Именно, за
неоценимую помощь юноши при написании Барнабе Барнс озаглавил эпитафией свой
поэтический сборник "Партенофил и Партенофа", посвятив его Генри Райотсли, 3-му
графу Саутгемптону.
Поэтому любезно прилагаю для ознакомления и сравнения
полный текст сонета 49 лирического сборника "Партенофил и Партенофа" Барнабе
Барнса.
- Confer!
________________
© Swami Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text
by Barnabe Barnes "Parthenophil and Parthenophe"
Sonnet XLIX. "Coole coole in
waues, thy beames intollerable"
This text is distributed for nonprofit
and educational use only.
(Elizabethan Sonnets, ed. Sidney Lee, 1904, pp.
IXXV. et seq.. Professor E. Dowden
contributed a sympathetic criticism of
Barnes to The Academy of Sept. 2, 1876).
SONNET XLIX.
Coole coole in waues, thy beames intollerable
O sunne, no sonne but most
vnkinde stepfather,
By law nor nature fier but rebell rather,
Foole foole
these labours are inextricable,
A burthen whose weight is importable,
A
Syren which within thy brest doth bath her
A fiend which doth in graces
garments grath her,
A fortresse whose force is impregnable:
From my
lovel's lymbeck still still'd teares, oh teares!
Quench quench mine heate, or
with your soueraintie
Like Niobe conuert mine hart to marble:
Or with
fast-flowing pyne my body drye
And ryd me from dispaires chyll'd feares, oh
feares!
Which on mine heben harpes hart strings do warble.
Barnabe Barnes "Parthenophil and Parthenophe".
Всё круче, и круче
в путях, что становится невыносимым
О солнечный, не сын, но зато наибольше
чем добрый отчим,
Ни по закону природы пламенной, только бунтарь скорее,
Глупец, глупец, эти труды неразрывны,
Бременем, которого вес, разрешённый к
ввозу,
Сиреной, которая в твоей груди, её омывает
Демон, который её
натирает в облачениях милосердия,
Крепости, которой сила в неприступности:
Из моего лимбека любви ещё не остановились слёзы, о слёзы!
Утоли, утоли моё
сердце, или с помощью вашего суверенитета,
Словно Ниоба, превращающая моё
сердце в мрамор:
Иль с помощью быстрейшего костра моё тело иссушит
И
избавь меня от отчаяния, остужающих опасений; ох, особенности!
Которые на
моих приподнятых арфах сердечных струн исполняют трели.
Барнабе Барнс "Партенофил и Партенофа" сонет 49.
(Литературный перевод Свами Ранинанда 01.02.2023).
(Примечание от автора
эссе: Ниоба (Niobe), в греческой мифологии дочь Тантала (царя Сипила в Лидии) и
жена фиванского царя Амфиона. Она была прототипом осиротевшей матери,
оплакивающей потерю своих детей. Согласно "Илиаде" Гомера, у Ниобы было шесть
сыновей и шесть дочерей, и она хвасталась своим превосходством над титаном Лето,
у которого было только двое детей, божества-близнецы Аполлон и Артемида. В
наказание за её гордыню Аполлон убил всех сыновей Ниобы, а Артемида - всех её
дочерей. Мифограф 2-го века до н.э. Аполлодор (Библиотека, книга III) упоминает
о выживании Хлориды, которая стала женой Нелея и матерью Нестора. Тела мёртвых
детей девять дней пролежали непогребёнными, потому что Зевс превратил всех
фиванцев в камень, но на 10-й день они были похоронены богами. Ниоба вернулась в
свой фригийский дом, где её превратили в скалу на горе Сипилус находящийся в
локализации Яманлар Даги, к северо-востоку от Измира, Турция, которая продолжает
плакать, когда над ней тает снег. Encyclopedia Britannica).
Содержание сонетов стоящих по нумерации перед сонетами группы "Поэт
Соперник", "The Rival Poet", это сонеты 77-86 наглядно и детально показывают
бурю возмущения барда относительно утечки его творческих идей на сторону к
совершенно другим авторам, которые, по-видимому, уже "наступали на пятки" барду
в нескончаемом процессе соперничества заурядных по размаху авторов, поэтов и
драматургов "елизаветинской", во-истину "золотой" эпохи.
"And for the
peace of you I hold such strife
As 'twixt a miser and his wealth is found"
(75, 3-4).
"И для вашего спокойствия устроил Я раздор - такой,
Как
между скрягой и его богатством оказавшись (невпопад)" (75, 3-4).
В
строках 3-4 сонета 75, поэт искренне признал свою вину: "И для вашего
спокойствия устроил Я раздор - такой, как между скрягой и его богатством
оказавшись (невпопад)".
Содержание строки 3 сонета 75 выглядит нелепым: "И
для вашего спокойствия устроил Я раздор - такой", где поэт большую часть вины на
себя, если эту строку сравнить с содержанием предыдущего сонет 74, как может
показаться, но отнюдь не так.
Отношение к юноше у барда чересчур терпеливое,
он к "молодому человеку", адресату сонетов относится, как близкому родственнику,
что по понятной причине подталкивает на мысль об кровной связи между ними.
Приняв во внимание тот факт, что начиная с сонета 77 читателю раскрывается
группа сонетов "Поэт Соперник", "The Rival Poet", сонеты 77-86. В которых,
судя по содержанию поэт окончательно и болезненно разрывает отношения с юным
Саутгемптоном, так как он окончательно перешёл к сотрудничеству к
поэту-сопернику Барнабе Барнсу для написания лирического сборника "Партенофил и
Партенофа", "Parthenophil and Parthenophe", который будет закончен и опубликован
в 1593 году.
Впрочем, складывается впечатление, что содержание строки 4
сонета 75 как будто перенесено из темы запретного клада образа "богатого скряги"
строк 1-3 сонета 52, но речь идёт не деньгах или золоте, речь идёт об "sweet
up-locked treasure", "милом запертом кладе" скрытом в поэте, "the which he will
not every hour survey", "который он не будет оглядывать каждый час", так как это
сокровище находится в нём самом, таким образом раскрывают читателю поэтические
строки сонета 52.
- Confer!
________________
© Swami
Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by
William Shakespeare Sonnet 52, 1-3
This text is distributed for nonprofit
and educational use only.
"So am I as the rich, whose blessed key
Can bring him to his sweet up-locked treasure,
The which he will not every
hour survey" (52, 1-3).
William Shakespeare Sonnet
52, 1-3.
"Итак, Я, как богач, чьего благословенный ключ
Смог
привести к тому его милому запертому кладу,
Который он не будет оглядывать
каждый час" (52, 1-3).
Уильям Шекспир, Сонет 52,
1-3.
(Литературный перевод Свами Ранинанда 01.08.2023).
Впрочем, волей судеб судьба не случайно свела поэта с "молодым человеком",
по-видимому, их встреча по жизни была заранее предрешена свыше. Вне всякого
сомнения, что юноша стал для поэта и драматурга той путеводной звездой, которая
помогла вывести в верном направлении. Чтобы бард смог в полную силу раскрыть
свой бесценный клад драматического мастерства. Сакральный "клад" Уильяма
Шекспира, как поэта и драматурга, представлял собой способность самостоятельно
создать гениальные пьесы, которые в последующие столетия будут вызывать
восхищение, захватывая дух от восторга у многих людей. Вдохновляя многие
поколения поэтов, драматургов и режиссёров на написание новых произведений:
поэм, песен, пьес и сценариев для кинематографа.
Рассматривая творческое
наследие Шекспира, как философа, буквально с большой буквы, стоит обратиться
"платоновской аллегории пещеры", а следом к фрагменту пьесы Уильяма Шекспира
"Цимбелин, король Британии", написанной поэтом и драматургом, перешагнувшим
порог творческой зрелости.
Краткая справка.
"Платоновская
аллегория пещеры" - это философско-образная аллегория, изначально представленная
греческим философом Платоном в его трактате "Республика" (514a-520a, книга VII)
для сравнения с "образованием и его отсутствующего влияния на нашу природу". Она
написана, как диалог между Главконом старшим братом Платона и его наставником и
учителем Сократом по ходу диалектических диалогов в пересказе Платона. Аллегория
представлена по аналогии с Солнцем (508b-509c) и разделённой линией (509d-511e).
В этой аллегории Платон описывает людей, которые всю свою жизнь провели
"прикованными в пещере" лицом к глухой стене. Они наблюдают за тенями,
отбрасываемыми на стену предметами и происходящими событиями перед огнём позади
них, и дают названия этим теням.
Тени - это реальность "прикованных в
пещере", ни коим образом не точное отображение мира Реальности. Тени
представляют собой, лишь фрагменты отчасти отражённой реальности, которые мы
можем воспринимать с помощью наших чувств, в то время как объекты под солнцем
представляют истинные формы объектов, которые мы можем воспринимать только с
помощью разума. Существуют три более высоких уровня: естественнонаучных
познаний: дедуктивная математика, геометрия и логика, а также теория Форм (или
Идей).
Сократ, как учитель Платона пояснил ему, что философ подобен узнику,
досрочно освобождённому от "оков пещеры", который приходит к пониманию того, что
тени на стене не являются непосредственным основным источником видимых образов
на стене в пещере. Философ стремится осознанно понять и воспринять беспрестанно
изменяющиеся высшие уровни реальности. Но, другие обитатели пещеры, по-прежнему
не желают покидать свою тюрьму, поскольку не знают и не хотят знать более лучшей
жизни, чем в этой пещере.
Закованные в пещере не могут видеть ничего из того,
что происходит позади за их спиной; будучи прикованными они в состоянии видеть
только тени, отбрасываемые на стену пещеры перед ними. Источники звуков,
разговоров людей и отголоски событий за их спиной эхом отражаются от стен; но
закованные слепо продолжают верить, что эти звуки исходят от движущихся теней на
стене (514 с).
Сократ предположил, что тени, на самом деле являются
второстепенной подменой реальности для "прикованных в пещере" потому, что они
никогда не получили возможность увидеть что-либо иное; они не осознают, что то,
что они видят на стене пещеры, - это тени предметов и изменяющихся событий перед
огнём, будучи тенями, лишь только отражения от реальных вещей и постоянно
меняющихся событий за пределами этой аллегорической пещеры, но у "прикованных"
не появляется возможность увидеть Истинную Реальность и понять её до конца
(514b-515a).
- Confer
________________
© Swami
Runinanda
© Свами Ранинанда
________________
Original text by
William Shakespeare "Cymbeline, King of Britain" Act III, Scene III, line
1639-1648
What should we speak of
When we are old as you? when
we shall hear
The rain and wind beat dark December, how,
In this our
pinching cave, shall we discourse
The freezing hours away? We have seen
nothing;
We are beastly, subtle as the fox for prey,
Like warlike as the
wolf for what we eat;
Our valour is to chase what flies; our cage
We make
a quire, as doth the prison'd bird,
And sing our bondage freely.
William Shakespeare "Cymbeline, King of Britain" Act III, Scene III, line
1639-1648.
О чём должны мы говорить,
Когда мы будем такими же
старыми, как вы? Когда услышим мы
Дождь и ветер избивающие мрачный Декабрь
настолько, чтоб,
Не поговорить ли нам в этой нашей ущемляющей пещере
До
наступленья времён заморозков? Мы ничего этого не увидели;
Мы отвратительные,
коварные, как лисы в поиске добычи,
Уподобившись кровожадностью, как волкам,
из-за того, что мы поедаем;
Наша доблесть - это наша клеть, преследовать
того, кто взлетает;
Мы принуждаем певчую, словно делаем - тюремной птицей,
И свободно воспеваем своё рабство.
Уильям Шекспир
"Цимбелин, король Британии", акт 3, сцена 3, 1639-1648.
(Литературный
перевод Свами Ранинанда 01.10.2023).
Аллегорический образ "нашей
ущемляющей пещеры" пьесы Шекспира "Цимбелин, король Британии" прямо указывает на
непосредственное влияние "платоновской аллегории пещеры" на риторическую форму
сюжетной линии пьесы "поэта и драматурга на все времена".
Э
П
И
Л
О
Г
В вожделенной попытке найти хоть какие-то параллели между "Энеидой" Вергилия и
"Илиадой", и "Одиссеей" Гомера во множестве сопоставлений исторических фактов,
смен общественных парадигм государств в процессе колониальной экспансии и
дилеммы между свободой или коленопреклонённой ассимиляцией.
Но только
множество хронологических несоответствий в датировках никак не давало поверить в
изложенное в "Энеиде" Вергилия, где можно было ощутить попытки состыковать более
позднюю "мифологему" к древнегреческим мифам. Таким образом, как бы оправдать
нарастающую экспансию, выраженную в завоевании Греции и последующую колонизацию
Римом новых территорий и поглощением культурного наследия завоёванной
древнейшей, ранее процветавшей культуры эллинов.
Краткая справка.
"Энеида" (лат. "Aeneis") - латинская эпическая поэма, повествующая о легендарной
истории троянца Энея, который бежал после падения Трои и отправился в Италию,
где стал предком римлян. Написанная римским поэтом Вергилием (Virgil) между 29 и
19 годами до нашей эры "Энеида" состоит из 9896 строк дактилическим гекзаметром.
Первые шесть из двенадцати книг поэмы повествуют о странствиях Энея из Трои в
Италию, а вторая половина поэмы повествует о победоносной войне троянцев с
латинянами, под именем которой Энею и его троянским последователям суждено войти
в историю.
Герой Эней уже был известен по греко-римским легендам и мифам,
поскольку был персонажем "Илиады". Вергилий взял разрозненные рассказы о
странствиях Энея, его неопределённую связь с основанием Рима (не имевшую к
достоверным событиям никакого основания, согласно хронологии) и его описание,
как главного персонажа, не имеющего абсолютно никаких выраженных черт характера,
как реально существовавшей персоны, кроме наличия скрупулёзного благочестия, и
превратил "Энеиду" в убедительный миф или национальный эпос, который связывал
надуманную "историю" об основании Рима с легендами о Трое, по мнению римлян,
объяснял Пунические войны, прославлял традиционные римские добродетели и
узаконил династию Юлиев-Клавдиев как потомков основателей, героев и богов Рима и
Трои. "Энеида" продолжительное время рассматривалась, как одно из лучших
произведений Вергилия с мифологическим повествованием в латинской литературе.
Мифологию "Энеиды" можно разделить на две части, основываясь на разрозненных
сюжетах книг 1-6 (путешествие Энея в Лацию Италии), которые обычно ассоциируются
с "Одиссеей" Гомера, и книг 7-12 (война в Лации), отражающих "Илиаду". Обычно
считается, что эти две части отражают стремление Вергилия соперничать с Гомером,
рассматривая тему странствий как в "Одиссее", так и в "Илиаде". Однако это
приблизительное соответствие, о котором следует помнить.
Хотя окончательная
история о том, как Эней бежал из павшей Трои и нашёл новый дом в Италии, став,
таким образом, прародителем римлян, была изложена Вергилием, миф о приключениях
Энея после Трои существует на столетия раньше, чем он сам. По мере того, как
греческие поселения начали расширяться, начиная с шестого века до нашей эры,
греческие колонисты часто пытались связать свои новые дома и коренных жителей,
которых они там находили, с их ранее существовавшей мифологией; "Одиссея",
содержащая путешествия Одиссея по многим далёким землям, уже была написана.
предоставил такую ссылку. История Энея отражала не столько римскую, а скорее
всего обобщённый образ, воплощённый в сочетание различных греческих, этрусских,
латинских и римских элементов мифологических вариаций. Следуя поэтическому
воображению Вергилия, миф об Трое великолепно подходил, послужив подходящим
сюжетом для греческих колонистов в Великой Греции и Сицилии, которые хотели
связать свою новую родину с самими собой, и этрусков, которые первыми восприняли
историю Энея в Италии и быстро стали ассоциироваться с ним.
Греческие вазы,
датируемые шестым веком до нашей эры, свидетельствуют о том, что эти ранние
греческие мифологические рассказы об Энее, основавшем новый дом в Этрурии,
значительно опередили Вергилия, именно, оттуда было известно, что ему
поклонялись в Лавиниуме городе, который он основал. Обнаружение тринадцати
больших алтарей в Лавиниуме указывает на раннее греческое влияние, относящееся к
шестому-четвёртому векам до нашей эры. В последующие столетия римляне вступали в
контакт с греческими колониями, завоевав и колонизировав их, значительно позднее
приобщили легенду об Энее в их собственные мифологические повествования.
Наиболее вероятно, что они в полной мере заинтересовались греческими мифами - и
как следствие, принялись включать их в свои собственные легенды о Риме и
римском народе - после войны с эпирским царём Пирром (King Pyrrhus of Epirus in
280 BC), примерно в 280 году до н.э. Поскольку, после полного разрушения Трои
появилась прекрасная возможность или хитроумный способ включить Рим в греческую
историческую традицию в качестве в качестве великолепно профилированной
вариации, как будто всё это было в прошлом. Таким образом, чтобы завоёванные
греки получили возможность, хоть как-то привязать свою историческую
принадлежность к новым землям, некогда существовавшей Греции, завоёванной
римлянами. Но, несколько позднее - великий Рим пал.
Стон
роковой прошёл по Риму: "Канны!"
Там консул пал и войска лучший цвет
Полег; в руках врагов - весь юг пространный;
Идти на Город им - преграды нет!
У кораблей, под гнетом горьких бед,
В отчаяньи, в успех не веря бранный,
Народ шумит: искать обетованный
Край за; морем - готов, судьбе в ответ.
Но Публий Сципион и Аппий Клавдий
Вдруг предстают, гласят о высшей правде,
О славе тех, кто за отчизну пал.
Смутясь, внимают беглецы укорам,
И с
палуб сходят... Это - час, которым
Был побеждён надменный Ганнибал!
"Беглецы" ("Стон роковой прошёл по Риму: "Канны!..");
24
сентября 1917, В. Я. Брюсов (1873-1924).
(В. Я.
Брюсов: "Последние мечты". Лирика 1917-1919 года. - М.: кн-во "Творчество",
1920. - С. 62. Источник: В. Я. Брюсов. Собрание сочинений в семи томах. - М.:
Художественная литература, 1974. - Т. 3. Стихотворения 1918-1924. - С. 43-44.).
Post scriptum.
"A true symbol appears only when there is a need to
express what thought cannot think or what is only divined or felt".
"Истинный символ появляется только тогда, когда возникает необходимость выразить
то, что мысль не может постичь,
или то, что можно только предугадать или
предчувствовать".
- Карл Густав Юнг (Carl Jung "Dreams,
Shadows, and Myths").
17.09.2024 © Свами Ранинанда "Уильям Шекспир сонеты 64, 63, 100. William
Shakespeare Sonnets 64, 63, 100"
© Copyright: Свами Ранинанда,
2024
Свидетельство о публикации: 124091706712
|
|
Связаться с программистом сайта.